[П.А.Флоренский]
| [Библиотека "Вехи"]
III. ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА[1]
1. ИСТОРИЧЕСКИЕ
НАБЛЮДЕНИЯ
I
Внимание
приступающего впервые к русским иконам XIV и XV веков, а отчасти и XVI-го бывает поражено
обыкновенно неожиданными перспективными соотношениями, особенно когда дело идет
об изображении предметов с плоскими гранями и прямолинейными ребрами, как-то,
например, зданий, столов и седалищ, в особенности же книг, собственно евангелий,
с которыми обычно изображаются Спаситель и Святители. Эти особенные соотношения
стоят вопиющим противоречием с правилами линейной перспективы, и с точки зрения
этой последней не могут не рассматриваться как грубые безграмотности рисунка.
При
более внимательном разглядывании икон нетрудно бывает подметить, что и тела,
ограниченные кривыми поверхностями, тоже переданы в таких ракурсах, которые
исключаются правилами перспективного изображения. Как в криволинейных, так и в
ограненных телах, на иконе бывают нередко показаны такие части и поверхности,
которые не могут быть видны сразу, о чем нетрудно узнать из любого
элементарного учебника перспективы. Так, при нормальности луча зрения к фасаду
изображаемых зданий, у них бывают показаны совместно обе боковые стены; у
евангелия видны сразу три или даже все четыре обреза; лицо – изображается с
теменем, висками и ушами, отвернутыми вперед и как бы распластанными на
плоскости иконы, с повернутыми к зрителю плоскостями носа и других частей лица,
которые не должны были бы быть показаны, да еще при повернутости плоскостей,
которым, напротив, естественно было бы быть обращенными вперед; характерны
также горбы согбенных фигур деисусного ряда, спина и грудь, одновременно
представленные у св. Прохора, пишущего под руководством апостола Иоанна
богослова, и другие аналогичные соединения поверхностей профиля и фаса, спинной
и фронтальной плоскостей, и т.д. В связи с этими дополнительными плоскостями,
линии параллельные и не лежащие в плоскости иконы или ей параллельной, которые
перспективно должны были бы быть изображены сходящимися к линии горизонта, на
иконе бывают изображены, напротив, расходящимися. Одним словом, эти и подобные
нарушения перспективного единства того, что изображается на иконе, настолько
явны и определенны, что на них первым делом укажет самый посредственный ученик,
хотя бы лишь мимоходом и из третьих рук отведавший перспективы.
Но,
странное дело: эти «безграмотности» рисунка, которые, по-видимому, должны были
бы привести в ярость всякого зрителя, понявшего «наглядную несообразность»
такого изображения, напротив того, не вызывают никакого досадного чувства и
воспринимаются как нечто должное, даже нравятся. Мало того: когда иконы две или
три, приблизительно одного перевода и более или менее одинакового мастерства
письма, удается поставить рядом друг с другом, то зритель с полною
определенностью усматривает огромное художественное превосходство в той из
икон, в которой нарушение правил перспективы наибольшее, тогда как иконы более
«правильного» рисунка кажутся холодными, безжизненными и лишенными ближайшей
связи с реальностью, на них изображенною. Иконы, для непосредственного
художественного восприятия наиболее творческие, всегда оказываются с
перспективным «изъяном». А иконы, более удовлетворяющие учебнику перспективы, –
бездушны и скучны. Если позволить себе временно просто забыть о формальных
требованиях перспективности, то непосредственное художественное чутье ведет
каждого к признанию превосходства икон,
перспективность нарушающих.
Тут
может возникнуть предположение, что нравится собственно не способ изображения как таковой, а наивность и примитивность
искусства, еще детски-беззаботного по части художественной грамотности: бывают
же любители, склонные объявить иконы милым детским лепетом. Но нет:
принадлежность икон с сильным нарушением правил перспективы именно высоким
мастерам, тогда как меньшее нарушение этих самых правил свойственно
преимущественно мастерам второго и третьего разряда, побуждает обдумать, не наивно ли самое суждение о наивности
икон. С другой стороны, эти нарушения правил перспективы так настойчивы и
часты, так, я бы сказал, систематичны, и притом упорно систематичны, что
невольно рождается мысль о не случайности
этих нарушений, об особой системе
изображения и восприятия действительности, на иконах изображаемой.
Как
только эта мысль появилась, у наблюдателей икон рождается и постепенно крепнет
твердое убеждение, что эти нарушения правил перспективы составляют применение сознательного приема иконописного
искусства и что они, хороши ли, плохи ли, весьма преднамеренны и сознательны.
Это
впечатление сознательности сказанных нарушений перспективы чрезвычайно
усиливается от подчеркнутости
обсуждаемых особенных ракурсов, – применением к ним особенных же расцветок или,
как говорят иконописцы, раскрышек: особенности
рисунка тут не только не проскальзывают мимо
сознания через применение в соответственных местах каких-нибудь нейтральных
красок или смягченные общим цветовым эффектом, но, напротив того, выступают как
бы с вызовом, почти крича на общем красочном фоне. Так, например,
дополнительные плоскости зданий-палат не только не прячутся в тени, но,
напротив, бывают нередко окрашены в цвета яркие и притом совсем иные, нежели
плоскости фасадов. Наиболее же настойчиво заявляет о себе в таких случаях тот
предмет, который разнообразными приемами и без того наиболее выдвигается вперед
и стремится быть живописным центром иконы – евангелие; обрез его, обычно
расписываемый киноварью, является самым ярким местом иконы и тем чрезвычайно
резко подчеркивает свои дополнительные плоскости.
Таковы
приемы подчеркивания. Эти приемы тем более сознательны, что они стоят, к тому
же, в противоречии с обычною расцветкой предметов и, следовательно, не могут
быть объясняемы натуралистическим подражанием тому, что обычно бывает. Евангелие
не имело обычно киноварного обреза,
а боковые стены здания не красились
в цвета иные, чем фасад, так что в своеобразии их расцветки на иконах нельзя не
видеть стремления подчеркнуть дополнительность этих плоскостей и неподчинение
их ракурсам линейной перспективности, как таковые.
II
Указанные
приемы носят общее название обратной
или обращенной перспективы, а иногда
– и перспективы извращенной или ложной. Но обратная перспектива не
исчерпывает многообразных особенностей рисунка, а также – и светотени икон. Как
ближайшее распространение приемов обратной перспективы, следует отметить разноцентренность в изображениях:
рисунок строится так, как если бы на разные части его глаз смотрел, меняя свое
место. Тут одни части палат, например, нарисованы более или менее в
соответствии с требованиями обычной линейной перспективы, но каждая – с своей
особой точки зрения, т.е. со своим особым
центром перспективы; а иногда и со своим особым горизонтом, а иные части, кроме
того, изображены и с применением перспективы обратной. Эта сложная разработка
перспективных ракурсов бывает не только в палатном письме, но и в ликах, хотя
она проведена обычно не с очень большою настойчивостью, умеренно и некрикливо,
и потому может сойти здесь за «ошибки» рисунка; зато в других случаях все
школьные правила опрокидываются с такою смелостью, и столь властно
подчеркивается их нарушение, а соответственная икона так много говорит о себе,
о своих художественных достижениях, непосредственному художественному вкусу,
что не остается никакого сомнения: «неправильные» и взаимно противоречивые
подробности рисунка представляют сложный художественный расчет, который, если угодно, можно называть дерзким, но – никак не
наивным. Что скажем мы, например, об иконе Спаса Вседержителя в Лаврской
ризнице[2],
на которой голова отвернута вправо, но с правой же стороны имеет дополнительную
плоскость, причем ракурс левой стороны носа меньше правого и т.п.? Плоскость
носа настолько явно повернута в сторону, а поверхности темени и висков
развернуты, что не было бы затруднения забраковать такую икону, если бы не –
вопреки ее «неправильности» – изумительная выразительность и полнота ее. Это
впечатление осознается с полною определенностью, если мы взглянем тут же, в
Лаврской ризнице, на другую[3],
подобную же рисунком, переводом, размерами и красками икону того же
наименования, но написанную почти без вышеупомянутых отступлений от правил
перспективы и школьно – гораздо более правильную: эта последняя икона, в
сравнении с первой, представляется бессодержательною, невыразительною,
плоскостною и лишенною жизни, так что не остается сомнения, при общем
разительном их сходстве, что перспективные правилонарушения – не есть терпимая
слабость иконописца, а положительная сила
его, – именно то, вследствие чего первая из рассмотренных икон неизмеримо выше
второй, неправильная выше правильной.
Далее,
если обратиться к светотени, то и тут мы находим в иконах своеобразное
распределение теней, подчеркивающее и выделяющее несоответствие иконы
изображению, требуемому натуралистическою живописью. Отсутствие определенного
фокуса света, противоречивость освещений в разных местах иконы, стремление
выдвинуть массы, которые должны были бы быть затененными, – это опять не
случайности и не промахи мастера-примитивиста, но – художественные расчеты,
дающие максимум художественной изобразительности.
К
числу подобных же средств иконописной изобразительности следует отнести еще
линии так называемой разделки,
делаемые иным цветом, нежели цвет
раскрышки соответственного места иконы, а чаще всего металлически-блестящими –
золотою или очень редко серебряною ассисткой или твореным золотом. Этим
подчеркиванием цвета линий разделки
мы хотим сказать, что иконописец сознательно обращает на нее внимание, хотя она
не соответствует ничему физически зримому, т.е. какой-нибудь аналогичной
системе линий на одежде или седалище, например, но есть лишь система линий
потенциальных, линий строения данного предмета, подобных, например, линиям силы
электрического или магнитного поля, или системам эквипотенциальных или
изотермических и тому подобных кривых. Линии разделки выражают метафизическую
схему данного предмета, динамику его, с большею силою, чем видимые его линии,
но сами по себе они вовсе невидимы и, будучи начертанными на иконе, составляют;
по замыслу иконописца, совокупность заданий созерцающему глазу, линии заданных
глазу движений при созерцании им иконы. Эти линии – схема воспостроения в
сознании созерцаемого предмета, а если искать физические основы этих линий, то это
– силовые линии, линии натяжений, т.е. иными словами – не складки, образующиеся
от натяжения, еще не складки, но
складки лишь в возможности, в потенции, – те линии, по которым легли бы складки, если бы стали складываться вообще. Начертанные на дополнительной
плоскости линии разделки выявляют сознанию структивный характер этих плоскостей
и, следовательно, помогают, не ограничиваясь пассивным созерцанием этих
плоскостей, понять функциональное отношение таковых к целому и, значит, дают
материал с особенною остротою заметить неподчиненность подобных ракурсов
требованиям линейной перспективы.
Мы
не будем говорить о других, второстепенных, приемах иконописи, которыми она
подчеркивает свою неподсудность законам линейной перспективы и сознательность
своих перспективо-нарушений. Упомянем лишь об описи, обводящей рисунок и потому чрезвычайно подчеркивающей его
особенности, – об оживках, движках и отметинах, а также пробелах, выявляющих выпуклости и потому акцентирующих все
неровности, которым не следовало бы быть видными, и т.д. Можно думать,
сказанного достаточно, чтобы напомнить всем, приглядывавшимся к иконам, уже
имеющийся запас впечатлений о неслучайности
отступлений от правил перспективы и, мало того, об эстетической плодотворности
таких нарушений.
III
И
теперь, после такого напоминания, перед нами встает вопрос о смысле и о
правомерности этих нарушений. Т.е., другими словами, перед нами встает сродный
вопрос о границах применения и о смысле перспективы. В самом ли деле
перспектива, как на то притязают ее сторонники, выражает природу вещей и потому
должна всегда и везде быть рассматриваема как безусловная предпосылка
художественной правдивости? или же это есть только схема, и притом одна из
возможных схем изобразительности, соответствующая не мировосприятию в целом, а лишь одному из возможных истолкований мира, связанному с вполне
определенным жизнечувствием и жизнепониманием? Или еще: есть ли перспектива,
перспективный образ мира, перспективное истолкование мира, – естественный, из
существа его вытекающий образ, истинное слово
мира, или же это – только особая орфография, одна из многих конструкций,
характерная для создавших ее, свойственная веку и жизнепониманию придумавших ее
и выражающая собственный их стиль –
но вовсе не исключающая иных орфографий, иных систем транскрипций,
соответствующих жизнепониманию и стилю иных веков? и притом, может быть,
транскрипций более связанных с существом дела, – во всяком случае так, что
нарушение этой, перспективной, хотя бы столь же мало мешает художественной
истине изображений, как грамматические ошибки в письме святого человека –
жизненной правде излагаемого им опыта?
Чтобы
ответить на наш вопрос, дадим прежде всего историческую
справку, а именно: уясним себе исторически, насколько, в самом деле,
изобразительность и перспектива между собою неразрывны.
Вавилонские и египетские
плоские рельефы не обнаруживают признаков перспективы, как не обнаруживают они,
впрочем, и того, что в собственном смысле следует называть обратною
перспективою; разноцентренность же египетских изображений, как известно,
чрезвычайно велика и канонична в
египетском искусстве: всем памятна профильность лица и ног при повороте плечей
и груди египетских рельефов и росписей. Но во всяком случае в них нет прямой
перспективы[4].
Между тем поразительная правдивость портретных и жанровых египетских скульптур
показывает огромную наблюдательность египетских художников, и если правила
перспективы в самом деле так существенно входят в правду мира, как о том
твердят их сторонники, то было бы совершенно непонятно, почему не заметил
перспективы и как мог не заметить ее изощренный глаз египетского мастера. С
другой стороны, известный историк математики Мориц Кантор отмечает, что египтяне обладали уже геометрическими
предусловиями перспективных изображений. Знали они, в частности, геометрическую
пропорциональность и притом подвинулись в этом отношении так далеко, что умели,
где требуется, применять увеличенный или уменьшенный масштаб. «Едва ли поэтому
не покажется поразительным, что египтяне не сделали дальнейшего шага и не открыли
перспективы. Как известно, в египетской живописи нет никакого следа ее, и хотя
можно признавать религиозные или иные основания тому, но остается заверенным
геометрический факт, что египтяне не пользовались приемом мыслить расписную
стену как вставленную между смотрящим глазом и изображаемым предметом и
соединять посредством линии точки пересечения этой плоскости с, лучами,
направленными к тому предмету»[5].
Мимоходом
оброненное замечание Морица Кантора о религиозных
основаниях бесперспективности египетских изображений весьма достойно внимания.
В самом деле, египетское искусство, насчитывающее тысячелетия в своем прошлом,
получило строго канонический характер и отлилось в непреложные иератические
формулы, может быть, по внутреннему смыслу своему не слишком далекие от
иероглифических надписей, как и надписи, в свой черед, не слишком отошли еще от
метафизической изобразительности. Разумеется, египетское искусство не нуждалось
ни в каких новшествах и постепенно все более замыкалось в себя. Перспективные
соотношения, если бы они и были подмечены, не могли быть допущены в
самозамкнутый круг канонов египетского искусства. Отсутствие прямой перспективы
у египтян, как, хотя в другом смысле, и у китайцев, доказывает скорее зрелость
и даже старческую перезрелость их искусства, нежели младенческую его
неопытность, – освобождение от
перспективы или изначальное непризнание ее власти, как увидим, характерной для
субъективизма и иллюзионизма, – ради
религиозной объективности и сверхличной метафизичности. Напротив, когда
разлагается религиозная устойчивость мировоззрения, и священная метафизика
общего народного сознания разъедается индивидуальным усмотрением отдельного лица с его отдельной точкою зрения, и притом с
отдельною точкою зрения в этот
именно данный момент, – тогда появляется и характерная для отъединенного
сознания перспективность; но притом – все же сперва не в искусстве чистом,
которое по самому существу своему всегда более или менее метафизично, а в
искусстве прикладном, как момент
декоративности, имеющий своим заданием не
истинность бытия, а правдоподобие казания.
Замечательно,
что именно Анаксагору, тому
Анаксагору, который пытался само-живые божества Солнце и Луну превратить в
раскаленные камни, а божественное миротворчество подменить центральным вихрем, в
котором возникли светила, именно этому Анаксагору Витрувий приписывает
изобретение перспективы и притом в так называемой древними скенографии, т.е. в росписи театральных декораций. По сообщению Витрувия[6],
когда, приблизительно около 470 года до Р.Х., Эсхил ставил в Афинах свои
трагедии, а известный Агафарх устроил ему декорации и написал о них трактат, «Commentarius», то именно по
этому поводу Анаксагор и Демокрит получили побуждение выяснить этот самый
предмет – писание декораций – научно. Вопрос, поставленный ими, заключался в
том, как должны быть проведены на плоскости линии, чтобы, при принятии
известного центра, лучи, проведенные к ним из глаза, соответствовали лучам,
проведенным из глаза, находящегося на том же месте, к соответственным точкам
самого здания, – так, чтобы изображение на ретине от предмета подлинного,
выражаясь по-современному, вполне совпадало с таковым же от декорации,
представляющей этот предмет.
IV
Итак,
перспектива возникает не в чистом
искусстве и выражает, по самому первоначальному своему заданию, отнюдь не живое
художественное восприятие действительности, а придумывается в области искусства
прикладного, точнее говоря, в области театральной техники, привлекающей на свою
службу живопись и подчиняющей ее своим задачам. Соответствуют ли эти задачи
задачам чистой живописи – этот вопрос не
нуждается в ответе. Ведь живопись имеет задачею не дублировать действительность, а дать наиболее глубокое
постижение ее архитектоники, ее материала, ее смысла; и постижение этого
смысла, этого материала действительности, архитектоники ее – созерцающему глазу
художника дается в живом соприкосновении
с реальностью, вживанием и вчувствованием в реальность. Между тем театральная
декорация хочет, насколько возможно, заменить
действительность – ее видимостью: эстетичность этой видимости есть внутренняя
связность ее элементов, но вовсе не символическое знаменование первообраза чрез
образ, воплощенный средствами художественной техники. Декорация есть обман, хотя бы и красивый, чистая же
живопись есть, или по крайней мере хочет быть, прежде всего правдою жизни, жизнь не подменяющею, но
лишь символически знаменующею в ее глубочайшей реальности. Декорация есть
ширма, застящая свет бытия, а чистая живопись есть открытое настежь окно в
реальность. Для рационалистического ума Анаксагора и Демокрита –
изобразительного искусства как символа реальности не могло быть, да и не
требовалось: как для всякого «передвижничества» мысли – если позволить себе из
этого мелкого явления русской жизни сделать историческую категорию, – им
требовалась не правда жизни, дающая постижение, а внешнее подобие,
прагматически полезное для ближайших жизненных действий, – не творческие основы
жизни, а имитация жизненной поверхности. До
того греческая сцена лишь ознаменовывалась «картинами и тканями»[7];
теперь стала чувствоваться нужда в иллюзии.
И вот, предполагая, что зритель или декоратор-художник прикован, воистину, как
узник Платоновской пещеры, к театральной скамье и не может, а равно и не
должен, иметь непосредственного, жизненного отношения к реальности, – как бы
стеклянной перегородкой отделен от сцены и есть один только неподвижный
смотрящий глаз, без проникновения в самое существо жизни и, главное, с
парализованною волею, ибо самое существо обмирщенного театра требует
безвольного смотрения на сцену, как на некоторое «не вправду», «не на самом
деле», как на некоторый пустой обман, – эти первые теоретики перспективы,
говорю, дают правила наивящего обмана театрального зрителя. Анаксагор и
Демокрит живого человека подменяют зрителем, отравленным курарэ, и уясняют правила обмана такого зрителя. Сейчас нам нет
надобности оспаривать; временно согласимся: для зрительной иллюзии такого
больного, лишенного большей части общечеловеческой жизни, эти приемы
перспективного изображения действительно имеют свой смысл.
Следовательно,
мы должны признать установленным, что, по крайней мере, в Греции, в V веке до Р.Х.,
перспектива была известна, и если, в
том или другом случае, она все же не
применялась, то, явное дело, это происходило вовсе не от неизвестности ее начал, а по каким-то иным, более глубоким
побуждениям, и именно побуждениям, исходящим из высших требований чистого искусства. Да и было бы крайне
невероятным и не соответствующим состоянию математических наук и высокой
геометрической наблюдательности изощренного глаза древних – предположить, что
они не заметили, якобы присущей нормальному зрению, перспективности образа мира
или не сумели вывести соответственных простых применений из элементарных теорем
геометрии; было бы очень трудно усомниться в том, что когда они не применяли
правил перспективы, то это делалось потому, что они просто не хотели их применять, считали излишними и анти-художественными.
V
В
самом деле, Птолемей в своей
«Географии»[8],
относящейся ко II
веку до Р.Х., рассматривает картографическую теорию проекции сферы на
плоскость, а в своем «Планисферии» обсуждает разные способы проекций,
преимущественно же – проекцию из полюса на экваториальную плоскость, т.е. ту
проекцию, которую в 1613 г. Эгилльон
назвал стереографическою, а также
решает другие трудные проективные задачи[9].
Возможно ли представить, что при таком состоянии знаний были неизвестны простые
приемы линейной перспективы? И, в самом деле, там, где мы имеем дело не с чистым искусством, а с
декоративными иллюзиями, применяемыми для обманчивого расширения пространства
театральной сцены или для разрушения плоскости домашней стены, мы неизменно
наталкиваемся на соответствующее поставленной цели пользование линейною
перспективою.
В
особенности это наблюдается в тех случаях, когда жизнь, удаляясь от глубинных
истоков своих, течет мелкими водами легкого эпикуреизма, в атмосфере
легковесной буржуазности греческих человечков – graeculorum, как их называли современные
им римляне, человечков, лишившихся ноуменальной глубины греческого гения и не
успевших приобрести величественного размаха, вселенской по обхвату,
морально-политической мысли римского народа. Здесь разумеются изящно-пустые
росписи домов в Помпеях, архитектурные стенные декорации помпейских вилл[10].
Занесенное в Рим главным образом из Александрии и других центров
эллинистической культуры в I
и II
веке, это барокко древнего мира задавалось чисто иллюзионистическими задачами и
стремилось именно обмануть зрителя,
который предполагался, следовательно, более-менее неподвижным. Архитектурные и
ландшафтные росписи такого рода бывают, может быть, нелепы, в смысле
невозможности их осуществления в действительности[11],
но тем не менее они хотят обмануть, как бы играют и дразнят зрителя. Иные
подробности переданы с таким натурализмом, что зритель лишь ощупью убеждается в
оптическом обмане: этому впечатлению способствует мастерская светотень,
расположенная в зависимости от того источника света – окна, отверстия в потолке,
двери, – который освещал комнату[12].
Достоин величайшего внимания тот замечательный факт, что и от этого
иллюзионистического пейзажа опять протягиваются связывающие нити к архитектуре
греко-римской сцены[13].
Корень перспективы – театр, не по той только историко-технической причине, что театру впервые потребовалась
перспектива, но и в силу побуждения более глубокого: театральности
перспективного изображения мира. В том ведь и состоит нетрудовое, лишенное
чувства реальности и сознания ответственности, мирочувствие, что для него жизнь
есть только зрелище, и ничуть не подвиг. И потому – возвращаемся к Помпеям –
трудно искать в этих росписях подлинные произведения чистого искусства.
Действительно, техническая бойкость этих домашних декораций все же не заставляет
забывать историков искусства[14], что
в них мы имеем перед собою «лишь произведения виртуозов ремесленников, а не
настоящих одухотворенных художников». Точно так же – и относительно пейзажных
фонов на сюжетных картинах, написанных «всегда очень приблизительно», быстро и
умело набросанных. «Так ли были написаны фоны на знаменитых картинах классиков
– это еще вопрос»[15]. Эти
памятники страдают приблизительностью в разрешении перспективных задач, к
которым художники подходили как будто исключительно опытным путем, – говорит
Бенуа. – Все же вопрос большой: значат ли эти черты, что законы перспективы
действительно не были известны древним. Не видим ли мы, – спрашивает Бенуа, –
«в настоящее время такое же забвение перспективы как науки? Совершенно недалеко
то время, когда и мы дойдем в этой области до «византийских» нелепостей и
оставим за собой неумение и приблизительность поздней классической живописи.
Можно ли будет на этом основании отрицать знание законов перспективы в поколении художников, нам предшествовавшем?..»[16]
Действительно,
можно отчасти видеть в этой полуточности перспективных осуществлений начатки
того развала перспективы, который вскоре начинается в Восточном и в Западном
Средневековьи. Но, мне думается, эти неточности перспективы есть компромисс
между задачами собственно декоративными – иллюзионистической живописи – и
задачами синтетическими – живописи чистой: ведь нельзя забывать, что жилой дом,
хотя бы и очень нетрудовой, все-таки не есть театр и что обитатель дома вовсе
не так прикован к своему месту и не так ущемлен в своей жизни, как зритель
театра. Если бы стенная роспись какого-нибудь дома Виттиев в точности
подчинялась правилам перспективы, то она, притязая на обман или на игривую
шутку, достигала бы такового только
при неподвижности зрителя и притом находящегося в строго определенном месте
комнаты; напротив, всякое движение его или, тем более, перемена места
производила бы отвратительное чувство неудавшегося обмана или разоблаченного
трюка. Вот именно чтобы избежать грубых нарушений иллюзий, декоратор
отказывается от ее безусловной навязчивости для каждой отдельной точки зрения и дает поэтому некоторую синтетическую
перспективу, некоторое приблизительное,
для каждой отдельной точки зрения, решение задачи, но зато распространяющееся
на пространство всей комнаты: образно
говоря, прибегает к темперированному строю клавишного инструмента, в пределах
требуемой точности – достаточному. А еще, говоря иначе, он отчасти отказывается
от искусства подобий и вступает на некоторый, хотя и в весьма малой степени,
путь синтетического изображения мира, т.е. из декоратора делается несколько
художником. Но, повторяю, художника в нем можно видеть не потому, что он отчасти, и от очень большой части, держится
правил перспективы, а потому и постольку, что он от них отступает.
VI
Начиная
с IV
века по Р.Х. – иллюзионизм разлагается, и перспективная пространственность в
живописи исчезает: обнаруживается явное непризнание правил перспективы,
необращения внимания на пропорциональные соотношения отдельных предметов и
даже, иногда, их отдельных частей. Это разрушение позднеклассической, в
существе своем перспективной, живописи идет с чрезвычайной быстротою, а затем с
каждым веком углубляется, включительно до времени Раннего Возрождения. У
мастеров Средневековья «нет никакого представления о сведении линий к одной
точке или о значении горизонта. Поздние римские и византийские художники как
будто никогда не видели зданий в натуре, а имели дело лишь с плоскими
игрушечными вырезками. О пропорциях они заботятся столь же мало и, с течением
времени, все меньше и меньше. Никакого отношения между ростом фигур и здании,
для этих фигур назначенных, не существует. К этому надо еще прибавить, что с
веками, даже в деталях, замечается все возрастающее удаление от
действительности. Еще кое-какие параллели между действительной архитектурой и
архитектурной живописью можно установить в произведениях VI, VII и даже X и XI веков, но дальше
утверждается в византийском искусстве тот странный тип «палатной живописи», в
котором все – произвол и условность»[17].
Эта
характеристика средневековой живописи взята нами из «Истории Живописи» А.Бенуа, но отсюда – потому лишь, что
книга была под рукою; в сетованиях Бенуа нетрудно расслышать давно-давно
надоевшие охуления средневекового искусства, в особенности за «неведение»
перспективы, которые можно прочесть в любой книжке по истории искусства, с
обычным указанием на изображение домов «на три фронта», как рисуют дети, на
«условность» раскрасок, на расхождение к горизонту параллелей, на
непропорциональность и вообще всякое перспективное и прочее пространственное
невежество. Для полноты такой характеристики Средневековья нужно добавить, что
и на Западе, с той же самой точки зрения, обстояло дело не лучше, но даже
значительно хуже: «Если мы сопоставим то, что приблизительно в X веке творилось в
Западной Европе, с тем, что происходило в то же время в Византии, то последнее
покажется верхом художественной утонченности и технического великолепия»[18].
При тайком понимании Византии само собою разумеется и резюме, у Бенуа ли, или у большинства других, – не все ли равно,
так уже прискучило оно бесчисленными повторениями, рука об руку с еще более
надоевшими выкриками историков культуры о «мраке» Средневековья, – резюме,
гласящее:
«История
Византийской живописи со всеми ее колебаниями и временными
подъемами
есть история упадка, одичания и омертвения. Образцы Византийцев
все
более удаляются от жизни, их техника становится все более рабски
традиционной
и ремесленной»[19].
Схема
истории искусств и истории просвещения вообще, как известно, начиная с эпохи
Возрождения и почти до наших дней, неизменно одна и та же, и притом чрезвычайно
простая. В основе ее лежит непоколебимая вера в безусловную ценность, в
окончательную завершенность и, так сказать, канонизированность, вознесенность
почти в область метафизическую, буржуазной цивилизации второй половины XIX века, т.е.
кантовская, хотя бы и не прямо от Канта берущаяся, ориентировка. Поистине, если
где можно говорить об идеологических надстройках над экономическими формами
жизни, так это здесь, у историков культуры XIX века, слепо
уверовавших в абсолютность мелкой буржуазности и расценивающих всемирную
историю по степени близости ее явлений к явлениям второй половины XIX века. Так и в истории
искусства: все то, что похоже на искусство этого времени или движется к нему,
признается положительным, остальное же все – падением, невежеством, дикостью.
При такой оценке делается понятной восторженная похвала, нередко срывающаяся с
уст почтенных историков: «совсем по-современному», «лучше не могли бы сделать и
тогда-то», причем указывается какой-нибудь год, близкий ко времени самого
историка. Действительно, для них, уверовавших в современность, неизбежно и
полное доверие к своим современникам, подобно тому как провинциалы науки
глубоко убеждены, что окончательною истиною в науке «признана»
( – как будто есть какой-то вселенский собор для формулирования
догматов в науке – ) та или другая книжка. И тогда понятно, что
античное искусство, переходящее от святых архаиков через посредство прекрасного
к чувственному и, наконец, к иллюзионистическому, таким историкам кажется развивающимся. Средневековье,
решительно обрывающее с задачами иллюзионизма и ставящее своею целью не
созидание подобий, а символы реальности, кажется падающим. И, наконец,
искусство Нового Времени, начинающееся Возрождением и тут же, по молчаливому
перемигиванию, по какому-то току взаимного соглашения, решившее подменить
созидание символов – построением подобий, это искусство, широкой дорогой
приведшее к XIX
веку, кажется историкам бесспорно совершенствующимся. «Как же это может быть
плохо, если непреложною внутренней логикой это привело к вам, ко мне?» – такова
истинная мысль наших историков, если ее выразить без жеманства.
И
они глубоко правы в сознании прямой связи, и притом – не внешне-исторической
только, а внутренне-логической, трансцендентальной связи между посылками
времени Возрождения и жизнепониманием самого недавнего прошлого, точно так же,
как они глубочайше правы в своем ощущении полной несоединимости предпосылок
средневековых и мировоззрения только что указанного. Если просуммировать все
то, что говорится в формальном отношении против искусства Средневековья, то оно
сводится к упреку: «Нет понимания пространства», а этот упрек, в раскрытом
виде, означает, что нет пространственного единства, нет схемы
эвклидо-кантовского пространства, сводящейся, в пределах живописи, – к линейной
перспективе и пропорциональности, а точнее говоря, – к одной перспективе, ибо
пропорциональность – лишь ее частность.
При
этом (и – что самое опасное – бессознательно) предполагается само собою
разумеющимся или где-то и кем-то абсолютно доказанным, что никаких форм в
природе не существует, – не существует, как живущих каждая своим мирком, – ибо
вообще не существует никаких реальностей, имеющих в себе центр и потому подлежащих своим
законам; что посему все зримое и воспринимаемое есть только простой материал
для заполнения некоторой общей, извне на него накладываемой схемы упорядочения,
каковою служит канто-эвклидовское пространство, и что, следовательно, все формы
природы суть только кажущиеся формы, накладываемые на безличный и безразличный
материал схемою научного мышления, т.е. суть как бы клеточки разграфления
жизни, – и не более. И, наконец, предпосылка логически первая – о качественной
однородности, бесконечности и беспредельности пространства, о его, так сказать,
бесформенности и неиндивидуальности. Не трудно видеть, что эти предпосылки
отрицают и природу и человека зараз, хотя и коренятся, по насмешке истории, в
лозунгах, которые назывались «натурализм»
и «гуманизм», а завершились
формальным провозглашением прав человека и природы.
Сейчас
не место устанавливать или даже разъяснять связь возрожденских сладких корней с
кантовскими горькими плодами. Достаточно известно, что кантианство, по пафосу
своему, есть именно углубленное гуманитарно-натуралистическое жизнепонимание
Возрождения, а по обхвату и глубине – самосознание того исторического эона,
который называет себя «новым европейским просвещением» и не без права кичился
еще недавно своим фактическим господством. Но в новейшее время мы уже научаемся
понимать мнимую окончательность
этого просвещения и узнали, как научно-философски, так и исторически, а в
особенности, художественно, что все те пугала, которыми нас отпугивали от
Средневековья, выдуманы самими же историками, что в Средневековьи течет
полноводная и содержательная река истинной культуры, со своею наукою, со своим
искусством, со своею
государственностью, вообще со всем, что принадлежит культуре, но именно со своим, и притом примыкающим к истинной
античности. И предпосылки, которые считаются непреложными в жизнепонимании
Нового Времени, тут, как и в древности ( – да, как и в
древности! – ), не только считаются непреложными, а отвергаются, не
по малой сознательности, а по существу устремления воли. Пафос нового человека
– избавиться от всякой реальности, чтобы «хочу» законодательствовало вновь
строящейся действительностью, фантасмагоричной, хотя и заключенной в
разграфленные клетки. Напротив, пафос античного человека, как и человека
средневекового, – это приятие, благодарное признание и утверждение всяческой
реальности как блага, ибо бытие – благо, а благо – бытие; пафос средневекового
человека – утверждение реальности в себе и вне себя, и потому – объективность.
Субъективизму нового человека свойствен иллюзионизм; напротив, нет ничего столь
далекого от намерений и мыслей человека средневекового ( – а корни
его в античности – ), как творчество подобий и жизнь среди подобий.
Для нового человека, – возьмем откровенное его признание устами марбургской
школы, – действительность существует лишь тогда и постольку, когда и поскольку
наука соблаговолит разрешить ей
существовать, выдав свое разрешение в виде сочиненной схемы, схема же эта
должна быть решением юридического казуса, почему данное явление может считаться
всецело входящим в заготовленное разграфление жизни и потому допустимым.
Утверждается же патент на действительность – только в канцелярии Г.Когена, и
без его подписи к печати недействителен.
То,
что у марбуржцев высказывается откровенно, – составляет дух возрожденской мысли, и вся история просвещения в значительной
мере занята войною с жизнью, чтобы всецело ее придушить системою схем. Но
достойно внимания и глубочайшего внутреннего смеха, что это искажение, эту
порчу естественного человеческого способа мыслить и чувствовать, это
перевоспитание в духе нигилизма, новый человек усиленно выдает за возвращение к
естественности и за снятие каких-то и кем-то якобы наложенных на него пут,
причем, поистине, стараясь выскребсти с человеческой души письмена истории,
продырявливает самую душу.
Древний
и средневековый человек, напротив, прежде всего знает, что для того чтобы
хотеть – надо быть, быть реальностью
и притом среди реальностей, на которые надо опираться: он – глубоко реалистичен
и твердо стоит на земле, не в пример человеку новому, считающемуся лишь со
своими хотениями и, по необходимости, с ближайшими средствами их осуществления
и удовлетворениями. Понятно отсюда, что предпосылками реалистического жизнепонимания
были и всегда будут: есть реальности, т.е. есть центры бытия, некоторые сгустки
бытия, подлежащие своим законам, и
потому имеющие каждый свою форму; посему ничто существующее не может
рассматриваться как безразличный и пассивный материал для заполнения каких бы
то ни было схем, а тем более считаться со схемой эвклидо-кантовского
пространства; и потому формы должны постигаться по своей жизни, через себя изображаться,
согласно постижению, а не в ракурсах заранее распределенной перспективы. И,
наконец, самое пространство – не одно только равномерное бесструктурное место,
не простая графа, а само – своеобразная реальность, насквозь организованная,
нигде не безразличная, имеющая внутреннюю упорядоченность и строение.
VII
Итак:
перспективность или неперспективность живописи целого исторического периода
отнюдь не может рассматриваться как нечто равносильное умелости или неумелости,
а лежит гораздо глубже в определениях коренной воли, имеющей творческий импульс
в ту или другую сторону. Наш тезис – и мы еще неоднократно будем возвращаться к
нему – состоит в том, что в те исторические периоды художественного творчества,
когда не наблюдается пользования перспективой, творцы изобразительных искусств
не «не умеют», а не хотят ею
пользоваться или, точнее сказать, хотят пользоваться иным принципом изобразительности, нежели перспектива, а хотят так
потому, что гений времени понимает и чувствует мир способом, имманентно
включающим в себя и этот прием
изобразительности. Напротив, в другие периоды забывают смысл и значение
неперспективной изобразительности, решительно утрачивают чутье к ней, потому
что жизнепонимание времени, сделавшись совсем иным, ведет к перспективной
картине мира. И в том и в другом есть своя внутренняя последовательность, своя
принудительная логичность, в существе дела очень элементарная, и если она не
вступает в полную силу чрезвычайно быстро, то это происходит не от сложности этой логики, а от
двусмысленного колебания духа времени между двумя взаимно исключающими
самоопределениями.
Ведь
есть, в конечном итоге, только два
опыта мира – опыт общечеловеческий и опыт «научный», т.е. кантовский, как есть
только два отношения к жизни – внутреннее и внешнее, как есть два типа культуры – созерцательно-творческая и
хищнически-механическая. Все дело сводится к выбору того или другого пути –
средневековой ночи или просветительного дня культуры; а далее – все
определяется, как по писаному, с полною последовательностью. Но, чередующиеся в
истории, эти полосы культуры – вовсе не сразу отделяются друг от друга, – по неопределенности
состояния в соответственные времена самого духа, уже наскучившего одним и еще
не отваживающегося на другое.
Не
забегая сейчас в смысл нарушений
перспективы, – чтобы с большею психологическою убедительностью вернуться к
обсуждению этого вопроса впоследствии, – напомним тот факт средневековой
живописи, что нарушения перспективы вовсе не появляются здесь по временам, то
так, то этак, а подчинены определенной системе: уходящие параллели всегда расходятся к горизонту, и притом
тем заметнее, чем больше требуется выделить предмет, ими ограниченный. Если в
особенностях египетских рельефов мы видим не
случайность неведения, а художественный метод,
ибо эти особенности встречаются не раз или два, а тысячи, десятки тысяч раз, и
следовательно, преднамеренны, то как раз по аналогичной причине нельзя не
признать в своеобразии нарушения перспективности искусством средневековым –
тоже именно метода. Да и
психологически невозможно представить себе, чтобы, в течение многих веков,
сильные и глубокие люди, строители своеобразной культуры, не сумели бы заметить
такого элементарного, такого непреложного и, можно сказать, вопиющего о себе
факта, как схождение параллелей к горизонту.
Но,
если этого кажется мало, то вот еще доказательство: рисунки детей, в отношении
неперспективности, и именно обратной перспективы, живо напоминают рисунки
средневековые, несмотря на старание педагогов внушить детям правила линейной
перспективы; и только с утерею непосредственного отношения к миру дети
утрачивают обратную перспективу и подчиняются напетой им схеме. Так, независимо
друг от друга, поступают все дети.
И, значит, это – не есть простая случайность и не произвольная выдумка
какого-то византийствующего из них, а метод изобразительности, вытекающий из характера
воспринимательного синтеза мира. Так как детское мышление – это не слабое
мышление, а особый тип мышления[20],
и притом могущий иметь какие угодно степени совершенства, включительно до
гениальности, и даже преимущественно сродный гениальности, то следует признать,
что и обратная перспектива в изображении мира – вовсе не есть просто
неудавшаяся, недопонятая, недоизученная перспектива линейная, а есть именно
своеобразный охват мира, с которым должно считаться, как с зрелым и
самостоятельным приемом изобразительности, может быть – ненавидеть его, как
прием враждебный, но, во всяком случае, о котором не приходится говорить с
соболезнованием или с покровительственным снисхождением.
VIII
Действительно,
новое миропонимание ознаменовано в XIV веке на Западе и новым отношением к
перспективе.
Как
известно, первые тончайшие испарения натурализма, гуманизма и реформации
подымаются от невинной «овечки божией» – Франциска Ассизского,
канонизированного, ради иммунизации, по той простой причине, что вовремя не
спохватились его сжечь. А первым проявлением францисканства в области искусства
был джоттизм.
С
творчеством Джотто привычно
объединяется в мысли представление о Средневековьи, – однако, ошибочно. Джотто
смотрит в иную сторону. Его «веселый и счастливый, на итальянский манер,
гений», плодовитый и легкий, был склонен к по-возрожденски неглубокому взгляду
на жизнь. «Он был очень изобретателен, – говорит Вазари, – очень приятен в
обхождении и большой мастер говорить острые слова, память о которых еще жива в
этом городе»[1]. Однако те
из них, которые повторяются и поныне, непристойны и грубы, а многие к тому же и
неблагочестивы. Под покровом церковных сюжетов в нем можно подметить светский
дух, сатирический, чувственный и даже позитивистический, враждебный аскетизму.
Питаясь от зрелого прошлого, его эпохе предшествовавшего, он дышит, однако, уже
иным воздухом. «Хотя и рожденный в мистическом веке, он сам не был мистиком, и,
хотя он был другом Данте, он не походил на него», – пишет о Джотто Ип. Тэн[21].
Там, где Данте разит священным гневом, Джотто посмеивается и порицает – не
нарушение идеала, а сам идеал. Он, написавший «Обручение св. Франциска с
Бедностью», в своей поэме высмеивает самый идеал бедности. «Что до бедности,
якобы желаемой и искомой, то, как хорошо можно видеть на опыте, ее соблюдают
или не соблюдают, но не ради ее прославления, ибо с ней не сочетаются ни
тонкость разума, ни знания, ни любезность, ни добродетель. И, как мне кажется,
весьма стыдно звать добродетелью то, что подавляет хорошие качества, и очень дурно
предпочитать нечто животное действительным добродетелям, которые приносят
доброденствие всякому умному человеку и которые таковы, что, чем больше ими
наслаждаешься, тем больше их ценишь». Трудно поверить, чтобы это откровенное
предпочтение мирской славы подвигу самообуздания принадлежало другу Данте. Но –
это так; и, кроме Данте, он имел еще друзей эпикурейцев, отрицателей Бога.
Джотто создал себе идеал всемирной и гуманитарной культуры, и он представляет
себе жизнь в духе либер-пансеров Ренессанса, как земное счастье и прогресс
человека, с подчинением основной цели – полному и совершенному развитию всех
естественных сил – всего остального; изобретателям полезного и прекрасного
принадлежит здесь первое место. И сам он стремится быть таким же, первообраз типичнейшего
гения эпохи – Леонардо. «Он был очень любознателен, – говорит Вазари о Джотто,
– ходил вечно погруженный в размышления о новых вещах и старался приблизиться к
природе, почему он заслуживает быть названным учеником природы, а не кого-либо
другого. Он рисовал разнообразные пейзажи, полные скал и деревьев, что
представляло новизну в его время»[2].
Еще полный благородных соков Средневековья и сам не натуралист, он уже испытал
самый первый, предутренний ветерок натурализма и сделался его провозвестником.
Отец
современного пейзажа, Джотто выступает с приемом писаной, «обманывающей
зрение», архитектуры и на глаз, с удивительной для своего времени удачею,
решает смелые перспективные задачи. В знании Джотто правил перспективы историки
искусства сомневаются: если это правильно, то вот, следовательно,
доказательство, что когда глаз стал руководиться внутренним исканием
перспективы, то он тут же почти нашел ее, хотя и не в отчеканенной форме.
Джотто не только не делает грубых нарушений перспективы, но, напротив, как бы
играет с нею, ставя себе сложные перспективные проблемы и разрешая их
проницательно и полно; в частности, уходящие параллели сходятся к горизонту в
одну точку. Мало того, во фресках верхней церкви святого Франциска в Ассизи,
Джотто начинает с того, что стенопись имеет у него «значение чего-то
самостоятельного и как бы даже соперничающего с архитектурою». Фреска – «не
стенной узор с сюжетом», а «вид через стену на некие действия»[22].
Достойно внимания, что позже Джотто редко прибегал к этому слишком смелому для
того времени приему, и редко прибегают к нему все ближайшие его последователи,
тогда как в XV
веке подобная архитектура становится общим правилом, а в XVI, XVII веках приводит к
фокусному обогащению архитектурной живописи совершенно плоские и простые
помещения, лишенные какого бы то ни было реального архитектурного убранства[23].
Следовательно, если впоследствии отец современной живописи не прибегает к
подобному же приему, то не потому, чтобы он не знал его, а потому, что окрепший
художественный гений, т.е. осознавший себя в сфере чистого художества,
отчуждился от обманной перспективы, по крайней мере, от ее навязчивости, как,
по-видимому, смягчился у него впоследствии и его рационалистический гуманизм.
IX
Но
тогда, от чего же отправлялся Джотто? Или, иными словами, откуда же появилось у
него умение пользоваться перспективою? – Исторические аналогии и внутренний
смысл перспективы в живописи подсказывают уже известный нам ответ. Когда
безусловность теоцентризма заподозривается, и наряду с музыкой сфер звучит
музыка земли (разумею «землю» в смысле самоутверждения человеческого «я»),
тогда начинается попытка подставить на место помутневших и затуманившихся
реальностей – подобия и призраки, на место теургии – иллюзионистическое
искусство, на место божественного действа – театр.
Естественно
думать, что привычку и вкус к перспективным обманам зрения Джотто развил в себе
на театральной декорации: прецедент
подобного рода мы уже видели в сообщении Витрувия о постановке эсхиловских трагедий
и об участии в ней Анаксагора. Тем переходом от теургии к светскому зрению,
каковым были в древней Греции последовательно уводящие от мистической и,
определеннее, мистериальной реальности трагедии – Эсхила, затем Софокла и,
наконец, Еврипида, в развитии театра Нового Времени явились мистерии, давшие в
итоге выветривания новую драму. Историкам искусства представляется вероятным,
что пейзаж Джотто в самом деле возник из декораций того, что тогда называлось
«мистериями», и потому не мог, скажем от себя, не подчиниться началу
иллюзионистической декоративности, т.е. перспективе. Чтобы не казаться
голословными, подтвердим свои соображения мнением чуждого по образу мысли
историка искусства: «Какова была зависимость пейзажа Джотто от декораций
мистерий? – спрашивает себя А.Бенуа,
чтобы дать ответ: – Местами эта зависимость сказывается в столь сильной степени
(в виде крошечных «бутафорских» домиков и павильонов, в виде кулисообразных,
плоских, точно из картона вырезанных скал), что сомневаться в воздействии постановок
духовных спектаклей на его живопись просто невозможно: мы, вероятно, видим в
некоторых фресках прямо зафиксированные сцены этих зрелищ. Однако нужно
сказать, что как раз в картинах, принадлежащих, несомненно, Джотто, зависимость
эта сказывается меньше и каждый раз – в сильно переработанной, согласно
условиям монументальной живописи, форме»[24].
Другими
словами, Джотто, созревая как чистый художник, постепенно отходит от декораций,
которые к тому же, как дело артели, едва ли были совсем единоличными. Новшество
Джотто было, следовательно, – не в перспективности, как таковой, а в живописном
использовании этого приема, заимствованного из прикладной и простонародной
отрасли искусства, подобно тому как Петраркою и Данте был перенесен в поэзию
простонародный язык. В итоге возникает вывод, что знание или, по крайней мере,
умение пользоваться приемами перспективы, в качестве «тайной науки о
перспективе»[25],
по выражению А.Дюрера, уже
существовало, а, может быть, и всегда существовало среди мастеров,
расписывавших декорации к мистериям, хотя строгая живопись этих приемов и
чуждалась. А могла ли она их не знать? – Трудно себе представить обратное, коль
скоро были известны эвклидовские «Элементы Геометрии». Уже Дюрер, в своем «Наставлении в способах измерения»[26],
вышедшем в 1525 году и содержащем учение о перспективе, начинает первую книгу
трактата словами, ясно показывающими малую новизну теории перспективы в
сравнении с элементарной геометрией, – малую новизну, по сознанию людей того
времени: «Глубокомысленнейший Эвклид изложил основания геометрии, – пишет
Дюрер, – и тому, кто хорошо уже знаком с ними, написанное здесь будет излишним»[27].
Итак:
элементарная перспектива была давно известна, – была известна, хотя и не имела
доступа в высокое искусство далее прихожей.
Но,
по мере того как секуляризуется религиозное мировоззрение Средневековья, чистое
религиозное действо перерождается в полутеатральные мистерии, а икона – в так
называемую религиозную живопись, в которой религиозный сюжет все более и более
становится только предлогом для
изображения тела и пейзажа. Из Флоренции распространяется волна омирщения; во
Флоренции же джоттистами были найдены, а затем распространены, как
художественные прописи, начала натуралистической живописи.
Сам
Джотто, а от него Джовани да Милано, и особенно Альтикиери и Авансо, делают
смелые перспективные построения. Естественно, что эти художественные опыты,
равно и традиции, отчасти почерпнутые из трудов Витрувия и Эвклида, ложатся в
основу теоретической системы, в которой учению о перспективе предлежало быть
изложену полно и обоснованно. Те научные основания, которые после столетия
разработки дали «искусство Леонардо и Микель Анджело», были найдены и
выработаны во Флоренции. До нас не дошли сочинения двух теоретиков того
времени: Паоло дель Аббако (1366 г.) и более позднего – Биаджо де Парма.
Но возможно, что главным образом они-то и подготовили почву, на которой с
начала XV
века работали главные теоретики учения о перспективе[28],
Филиппо Брунеллески (1377 – 1449) и Паоло Учелло (1397 – 1475), затем Леон
Альберти, Пиеро деи Франчески (около 1420 – 1492) и, наконец, ряд скульпторов,
из которых в особенности следует отметить Донателло (1386 – 1466). Сила влияний
этих исследователей обусловливалась тем, что они не только теоретически
разрабатывали правила перспективы, но и осуществляли свои достижения в
иллюзионистической живописи. Таковы стенописи в виде памятников, изображенных с
огромным знанием перспективы на стенах Флорентийского дуомо, написанные в 1436
году Учелло и в 1435 году Кастаньи; такова же декорация-фреска Андреа дель
Кастаньо (1390 – 1457) в Сант-Аполлонио во Флоренции. «Весь строгий убор ее:
шашки на полу, кессоны в потолке, розетки и панели по стенам – изображены с
навязчивою отчетливостью для того, чтобы достичь полного впечатления глубины
(мы бы сказали: «стереоскопичности»). И это впечатление достигнуто настолько,
что вся сцена в ее застылости имеет вид какой-то группы из паноптикума, –
разумеется из «гениального паноптикума»»[29], –
по недоразумению едко замечает сторонник перспективности и Ренессанса. Пиеро
тоже оставляет руководство по перспективе, под заглавием «De perspectiva pingendi»[3]
Леон Баттиста Альберти (1404 – 1472), в своем трехтомном сочинении «О
живописи», написанном до 1446 года и напечатанном в Нюренберге в 1511 году, развивает
основы новой науки и иллюстрирует их применением в архитектурной живописи.
Мазаччио (1401 – 1429) и его ученики Беноццо Гоццоли (1420 – 1498) и Фра
Филиппо Липпи (1406 – 1469) стремятся воспользоваться в живописи тою же наукою
перспективы, пока, наконец, не берется за те же проблемы теоретически и
практически Леонардо да Винчи (1452 – 1519) и не завершают развитие перспективы
Рафаэль Санти (1483 – 1520) и Микель Анджело Буонаротти (1475 – 1564).
X
Не
будем далее отмечать этапы теоретического и живописного развития перспективы в
бывший непосредственно перед нашим эон истории, тем более что изучение ее
перешло преимущественно в руки математиков и уже стало далеким от
непосредственных интересов искусства: немногое, слегка намеченное здесь, имело
задачею не сообщение общеизвестных
исторических сведений, как таковых, а нечто совсем иное, – именно напомнить о
сложности и длительности этого развития, завершенного только в XVIII веке, Ламбертом, и
далее, в качестве одного из отделов начертательной геометрии, трудами Лориа,
Аскиери, Энриквеса в Италии, Шаля и Понселэ во Франции, Штаудта, Фидлера,
Винера, Купфера, Бурместера в Германии, Вильсона в Америке и других, влившейся
в общее русло чрезвычайно важной и обширной математической дисциплины – проективной геометрии[30].
Отсюда
вытекает, что как бы мы ни оценивали перспективу по существу, мы не имеем
никакого права разуметь в ней некий простой, естественный, непосредственно
свойственный человеческому глазу, как таковому, способ видеть мир.
Необходимость выковать учение о перспективе целому ряду больших умов и
опытнейших живописцев в течение нескольких веков, с участием первоклассных
математиков, и притом уже заведомо после
того, как подмечены были основные признаки перспективной проекции мира,
заставляет думать, что историческое дело выработки перспективы шло вовсе не о простой систематизации уже
присущего человеческой психофизиологии, а
о насильственном перевоспитании этой психофизиологии в смысле отвлеченных
требований нового миропонимания, существенно антихудожественного,
существенно исключающего из себя искусство, в особенности же изобразительное.
Но
душа Возрождения, душа вообще Нового Времени, – нецельная, расколотая душа,
двоящаяся в мыслях своих. В этом отношении искусство оказалось в выгоде. По
счастию, живое творчество все же не подчинялось требованиям рассудка, и
искусство на самом деле шло далеко не теми путями, какие возвещались в
отвлеченных декларациях. Обстоятельство, достойное внимания и смеха: даже сами
художники, теоретики перспективы, как только они не рассказывали предписываемых
ими же правил перспективы и отдавались, хотя уже зная ее секреты,
непосредственному художественному чутью при изображении мира, – они делали
грубые «промахи» и «ошибки» против ее требований – все, все! Но изучение соответственных
картин обнаруживает, что сила их – именно в этих «ошибках», в этих «промахах».
Вот уже когда действительно,
Und predigen öffentlich Wasser[4]
Сейчас
нет времени входить в подробный анализ художественных произведений, и придется
удовлетвориться лишь немногими типическими примерами их, доказывая высказанную
мысль, и притом брать их поверхностно, без разъяснений, что именно значит
эстетически их несоответствие перспективной схеме. Но, ради полной
отчетливости, напомним, и притом чужими словами, что есть задача
перспективистов – пресловутое «перспективное единство».
В
расцвет перспективо-верия и перспективо-почитания, в семидесятых годах XIX века, был составлен
Гвидо Шрейбером учебник перспективы, во втором издании просмотренный
архитектором и преподавателем перспективы в Лейпцигской Академии Художества
И.Ф.Фивегером и снабженный предисловием профессора и директора той же Академии
– Лудвига Нипера[31].
Кажется, солидно и высокоавторитетно! Так вот, в этом учебнике, в главе о
«перспективном единстве» стоит нижеследующее:
«Всякий
рисунок, притязающий на перспективное действие, должен положить в основу
определенное место рисовальщика или
зрителя. Рисунок должен таким образом иметь только одну точку зрения, только один
горизонт, только один масштаб.
По этой одной точке зрения должно
быть, между прочим, направлено ухождение всех перпендикулярно уходящих линий,
которые бегут вглубь изображений. На этом одном
горизонте должны, равным образом, лежать точки исчезновения всех других
перпендикулярных линий; правильное соотношение
величин – должно господствовать во всем изображении. Это есть то, что
надлежало бы разуметь под перспективным
единством. Если рисуется картина с натуры, то требуется только небольшая
внимательность к этим положениям, и все будет дано до известной степени само
собою»[32].
Итак,
значит:
Нарушение
единственности точки зрения, единственности горизонта и единственности масштаба
есть нарушение перспективного единства изображения.
Теперь:
Если
кто перспективист, то это, конечно, Леонардо.
Его «Тайная Вечеря», художественный фермент позднейших богословских «Жизней
Иисуса», имеет задачею снять пространственное разграничение того мира, евангельского, и этого, житейского, показать Христа как
имеющего только ценность особую, но
не особую реальность. То, что на
фреске, – постановка сценическая, но не особое, несравнимое с нашим
пространство. И эта сцена есть не более как продолжение пространства комнаты;
наш взор, а за ним и все наше существо, втягивается этою уходящею перспективою,
приводящею к правому глазу главного лица. Мы видим не реальность, а имеем
зрительный феномен; и мы подглядываем, словно в щель, холодно и любопытно, не
имея ни благоговения, ни жалости, ни, тем более, пафоса отдаления. На этой
сцене царят законы кантовского пространства и ньютоновской механики. Да. Но
если бы только так, то ведь
окончательно не получилось бы никакой вечери. И Леонардо ознаменовывает особливую ценность совершающегося – нарушением единственности масштаба. Простой промер легко покажет,
что горница еле имеет в высоту удвоенный человеческий рост, при ширине
трикратной, так что помещение нисколько не соответствует ни количеству
находящихся в нем людей, ни величию события. Однако потолок не представляется
давящим, и малость горницы дает картине драматическую насыщенность и
заполненность. Незаметно, но верно, мастер прибегнул к перспективо-нарушению[33],
хорошо известному со времен египетских: применил разные единицы измерения к
действующим лицам и к обстановке и, умалив меру последней, притом различно по
разным направлениям, тем самым возвеличил людей и придал скромному прощальному
ужину значимость всемирно-исторического события и, более того, центра истории.
Единство перспективное нарушено, двойственность ренессансовой души проявилась,
но зато картина приобрела убедительность эстетическую.
Известно,
какое величественное впечатление производит архитектура на рафаэлевской «Афинской школе»[34].
Если на память охарактеризовать впечатление от этих сводов, то их хочется сравнить,
например, с московским храмом Христа Спасителя: своды, кажется, равняются по
высоте церковным. Но промер показывает высоту столбов лишь немногим больше
удвоенного роста фигур, так что целое здание, по видимому столь пышное, было бы
весьма ничтожным, – незначительным, если бы его построить на самом деле. Прием
художника – в данном случае тоже весьма несложен. «Он принял две точки зрения,
расположенные на двух горизонтах. Из верхней точки зрения нарисован пол и вся
группа лиц, из нижней – своды и вообще вся верхняя часть картины. Если бы
фигуры людей имели общую точку схода с линиями потолка, то головы людей,
находящихся в глубине картины, опустились бы ниже и были бы закрыты людьми,
стоящими впереди, что повредило бы картине. – Точка схода линий потолка находится
в правой руке центральной фигуры (Аристотеля), который в левой руке держит
книгу, а правой указывает как бы на землю. Если провести к этой точке линию от
головы Александра, первой фигуры, находящейся по правую сторону Платона (с
поднятой рукой), то нетрудно заметить, насколько должна была бы уменьшиться
последняя фигура этой группы. То же самое относится и к группам, находящимся по
правую сторону зрителя. Чтобы скрыть эту перспективную погрешность, Рафаэль и
поставил в глубине картины действующих лиц и тем замаскировал линии пола,
идущие к горизонту»[35].
Из
других картин Рафаэля упомянем хотя
бы «Видение Иезекииля». Тут – несколько точек зрения и несколько горизонтов:
пространство видения не координировано с пространством дольнего мира, и сделать
это было решительно необходимо, ибо в противном случае сидящий на херувимах
показался бы лишь человеком, вопреки механике не падающим с высоты. (В этой
картине, как и во многих других у Рафаэля – равновесие двух начал,
перспективного и неперспективного, соответствующее спокойному сосуществованию
двух миров, двух пространств. Это – не потрясает, но умиляет, – подобно тому,
как если бы бесшумно раздернулась перед нами завеса иного мира, и нашим глазам
предстала бы – не сцена, не иллюзия в этом мире, а подлинная, хотя и не
вторгшаяся сюда, иная реальность. Намек на такое свойство
своей пространственности Рафаэль дает в Сикстине – завесами раздвинутыми.)
В
качестве прямой противоположности «Видению Иезекииля» можно указать, например,
находящуюся в Венецианской Академии картину Тинторетто – «Апостол Марк освобождает раба от мученической
смерти». Явление св. Марка представлено в том же пространстве, что и все
действующие лица, и небесное видение кажется телесной массой, имеющей вот-вот
упасть на головы свидетелей чуда. Тут не уклониться от воспоминания о
натуралистических приемах работы Тинторетто, подвешивавшего восковые фигурки к
потолку, чтобы натуралистически точно передать их ракурсы. И – небесное видение
оказалось, действительно, не более как восковой отливкой на подвесе, наподобие
елочных херувимов. Такова художественная неудача при слиянии пространств
разнородных.
Но
и пользование двумя пространствами зараз, перспективным и неперспективным,
встречаются тоже, – и весьма нередко, особенно при изображении видений и
чудесных явлений; таковы некоторые произведения Рембрандта, хотя о перспективности и частей их можно говорить лишь
со многими оговорками. Этот прием составляет характерную особенность Доменико
Теотокопуло, по прозванию El Greco. «Сон
Филиппа II»,
«Погребение графа Оргазе», «Сошествие Св. Духа», «Вид Толедо» и другие его
произведения явно распадаются, – каждое на несколько, не менее двух,
пространств, причем пространство духовной реальности определенно не смешивается
с пространством реальности чувственной. Это-то и придает картинам Эль-Греко
особую убедительность.
Однако
было бы ошибкой думать, что лишь мистические сюжеты требуют
перспективо-нарушений. Возьмем для примера «Фламандский пейзаж» Рубенса из галереи Уффици: средняя
часть его приблизительно перспективна, и пространство ее втягивает, тогда как
боковые – обратно перспективны, и пространства их выбрасывают из себя
апперцепирующее зрение. В результате получается два мощных зрительных
водоворота, изумительно наполняющих прозаический сюжет.
Таково
же равновесие двух начал пространственности в «Обращении апостола Павла» у Микель Анджело. Но совсем иная
пространственность в «Страшном Суде» этого последнего. Фреска представляет
некоторый склон: чем выше на картине некоторая точка, тем далее от зрителя
точка, ею изображаемая. Следовательно, по мере поднятия взора, глаз должен был
бы встречать фигуры все меньшие, в силу перспективного сокращения. Это, между
прочим, видно из того, что нижние фигуры загораживают собою верхние. Но, что
касается до размеров их, то величина фигур возрастает
по мере их повышения на фреске, т.е., значит, по мере их удаления от зрителя.
Таково свойство того духовного
пространства: чем дальше в нем нечто, тем больше, и чем ближе, – тем меньше.
Это – обратная перспектива. Усмотрев
ее, и притом столь последовательно проведенною, мы начинаем ощущать полную свою несоизмеримость с пространством
фрески. Мы не втягиваемся в это пространство; мало того, оно нас выталкивает на
себя, как выталкивало бы наше тело ртутное море. Хотя и видимое, оно трансцендентно
нам, мыслящим по Канту и Эвклиду. Живший в Барокко, Микель Анджело был, однако,
не то в прошлом, не то в будущем Средневековьи, – современник и совсем не
современник Леонардо.
XI
Когда
на отступления от правил перспективы наталкиваются впервые, то в отсутствии
перспективного единства усматривают случайный промах художника, некоторую болезнь его труда. Но самое небольшое
внимание быстро открывает такую погрешность почти в каждом произведении, и не-перспективность начинает оцениваться
теперь уже не как патология, но как физиология изобразительного искусства.
Тут
неизбежен вопрос: да может ли оно обойтись без
преобразования перспективы? Ведь задача его – дать некоторую пространственную
цельность, особый, в себе замкнутый мир, не механический, но внутренними силами
сдерживаемый в пределах рамы. А между тем вырезок из природного пространства,
фотография, – как кусок пространства, – самым существом дела не может не
выводить за свои границы, за пределы своей рамки, потому что есть часть, механически отделенная от
большего. Следовательно, художнику первым требованием стоит переорганизовать
выделяемый им в качестве материала вырезок пространства в самозамкнутое целое,
т.е. отменить перспективные соотношения, основная функция каковых есть
кантовское единство целокупного опыта, выражающееся в необходимости от каждого
опыта переходить к другим и в невозможности встретиться с областью
самодовлеющую. Есть ли в опыте перспектива на самом деле – это другой вопрос, и
не здесь его решать. Но есть ли она, или ее нет, а назначение ее –
определенное, и это назначение существенно противоречит делу живописи, раз
только эта последняя не продала себя иным деятельностям, нуждающимся в
«искусстве подобий», в иллюзиях мнимого продолжения чувственного опыта, когда
его нет вправду.
Имея
в виду сказанное, мы теперь уже не удивимся, усмотрев две точки зрения и два
горизонта в «Пире у Симона» Паоло
Веронезе, по меньшей мере два горизонта в его же «Лепантской победе»,
несколько точек зрения, расположенных вдоль одного горизонта, на картине
Горацио Верне «Взятие Смалы
Абд-Эль-Кадера», многочисленные перспективные неувязки в пейзаже Шванефельдта, а также Рубенса и т.д. и т.д., и во многих
других картинах, и поймем, почему в умных руководствах перспективы даже даются
советы, как нарушать перспективное единство, чтобы это не слишком было заметно
( – очевидно, ревнителям такового? – ), и в каких случаях
прибегнуть к такому «беззаконию» необходимо[36]. В
частности, рекомендуется располагать точки схода перпендикуляров к картинной
плоскости – по некоторой кривой, например, по обвертке нормалей к некоторому
эллипсу[37].
И художники, даже весьма далекие от задач, ставимых себе искусством
подлинно-сущего, издавна применяли подобные отступления от перспективного
единства.
Такова,
например, в Лувре знаменитая картина Паоло
Веронезе (1528 – 1588) «Брак в Кане»: по указанию специалистов, в этой
картине имеется семь точек зрения и пять горизонтов[38].
Фр. Боссюэ пытался дать
набросок архитектуры этой картины «исправленным», т.е. строго перспективным изображением,
и нашел, что он сохраняет «в существенном тот же порядок и ту же красоту»[39].
Хорошо представление о первоклассных произведениях искусства, которые так легко
можно «исправлять»! И не правильнее ли было бы свои эстетические воззрения проверить и исправить по существующим
историческим предметам искусства? Если же, в самом деле, строгое подчинение
перспективе неперспективной картины само по себе не нарушает ее красоты, то не
значит ли это, что как перспектива, так и отсутствие ее, эстетически по меньшей
мере вовсе не так важно, как то думают сторонники перспективы?
Припоминается,
как Альбрехт Дюрер кинулся в конце
1506 года из Флоренции в Болонью – разведать там «тайное искусство перспективы».
Но секреты перспективы ревниво охранялись, и, посетовав на несообщительность
болонцев, Дюрер вынужден был уехать, узнав весьма немного, – чтобы затем у себя
дома заняться самостоятельно открытием тех же приемов и написать о них трактат
( – каковой, впрочем, не помешал самому ему впадать в перспективные
«погрешности» – ).
Не
входя в обсуждение его творчества вообще, припомним его совершеннейшее
произведение, о котором Ф.Куглер[40],
в своем отзыве (признаваемом специалистом по Дюреру за «наиболее полную и
удачную характеристику»[41]
этого произведения), говорит, что «художнику, окончившему такое произведение,
можно было расстаться с миром, ибо цель его в искусстве была достигнута:
произведение это бесспорно ставит его на одну линию с величайшими мастерами,
которыми справедливо гордится история искусства». Здесь, конечно, имеется в
виду диптих, известный под названием «Четырех апостолов», написанный в 1526
году, т.е. уже после выхода в свет
«Наставления к промерам» и за два года до кончины (Дюрер умер в 1528 г.).
Так вот: в этом диптихе головы двух позади стоящих фигур больше, нежели у стоящих спереди, вследствие чего сохраняется
основная плоскость греческого рельефа, хотя фигуры и не расставлены в этой
плоскости. По справедливому замечанию искусствоведа, «очевидно, мы имеем тут
дело с так называемой «обратной перспективой», согласно которой задние предметы
изображаются больше передних»[42].
Разумеется,
эта обратная перспективность «Апостолов» – не промах, а мужество гения,
опрокидывающего своим чутьем самые рациональные теории, даже собственные,
поскольку они требовали вполне сознательного иллюзионизма. В самом деле, что
может быть определеннее его наставлений в светотени, начинающихся: «Если ты
хочешь писать картины настолько рельефно, чтобы само зрение могло быть
обмануто¼»[43].
Такова его иллюзионистическая теория; но не иллюзионистично его творчество.
Противоречие же ( – характерное противоречие людей переходного
времени! – ) между теорией и творчеством в Дюрере предуказывалось
общею склонностью его к средневековому стилю и средневековым укладом основ его
духа, при новом строе мысли.
XII
Как
бы то ни было, а даже теоретики перспективы не соблюдали и не считали нужным
соблюдать «перспективное единство изображения». Как же, после этого, можно
говорить об естественности перспективного образа мира? Что это за
естественность, которую нужно подслушивать, чтобы затем, при величайших усилиях
и при постоянно напряженной сознательности, не делать ошибок против разузнанных
правил? Не напоминают ли эти правила скорее условного, предпринятого во имя
теоретических замыслов, заговора против естественного мировосприятия фиктивной
картины мира, которую, по гуманистическому мировоззрению, требуется видеть, но которой, несмотря на всю дрессировку,
человеческий глаз вовсе не видит, а
художник проговаривается о своем невидении, лишь только от геометрических
построений переходит к тому, что действительно воспринимает.
До
какой степени перспективный рисунок не есть нечто непосредственно разумеемое,
а, напротив, – продукт многих сложных искусственных условий, видно с особенною
убедительностью из приборов того же А.Дюрера,
прекрасно изображенных им на ксилографиях в его «Наставлении к промерам». Но,
насколько хороши самые гравюры, с их замкнутым, сжатым в себя пространством,
настолько же анти-художествен смысл наставлений, ими даваемых.
Назначение
приборов – дать возможность воспроизвести всякий предмет самому неискусному
рисовальщику, чисто механически, т.е. без
акта зрительного синтеза, а в одном случае – и вовсе без глаза. Чистосердечный Дюрер без обиняков разъясняет своими
приборами, что перспектива есть дело чего угодно, – но не зрения.
Один
из этих приборов таков: на конце стола, имеющего вид удлиненного
прямоугольника, укрепляется, перпендикулярно к его плоскости, прямоугольная
рама со стеклом. На противоположной, узкой, стороне стола, параллельно раме,
укрепляется на столе деревянный брусок, середина которого выдолблена и содержит
длинный винт. Помощью этого винта передвигается перпендикулярный к плоскости
стола брусок, а в этом последнем ходит, способный при помощи зубцов
закрепляться на Разиных высотах, деревянный стержень, имеющий на верхнем конце
дощечку с небольшим отверстием. Понятное дело, таким приспособлением дается, до
известной степени, модель
перспективной проекции из отверстия в дощечке на плоскость стеклянного листа,
и, смотря на предмет через означенную дырочку, можно прорисовать его проекцию
на стекле.
В
другом приборе точка зрения устанавливается неподвижно, тоже помощью особой
стойки, а плоскость проекции осуществляется сеткою пересекающихся под прямыми
углами нитей, причем рисунок наносится на разграфленную клетками же бумагу,
лежащую между стойкою и вертикальною сеткою, тут же на столе. Измеряя по
клеткам координаты точек проекции, можно соответственные точки отыскать и на
разграфленной бумаге.
Третий
прибор Дюрера уже совсем не имеет отношения к зрению: центр проекции
осуществляется тут не глазом, хотя бы и искусственно приведенным к
неподвижности, а некоторой точкою стены, в каковой точке укреплено колечко с
привязанною к нему длинною нитью. Эта последняя почти достает до рамы со
стеклом, вертикально стоящей на столе. Нить натягивается, и к ней
прикладывается визирная трубка, направляющая «луч зрения» в точке предмета,
проектируемой из места закрепления нити. Тогда нетрудно отметить пером или
кистью на стекле соответственную проектируемой точку проекции. Последовательно
визируя различные точки предмета, рисовальщик спроектирует его на стекло, но не
«с точки зрения», а с «точки стены»; зрение же несет при этом должность
вспомогательную.
Наконец,
при четвертом рисовальном приборе в зрении вовсе
нет надобности, ибо достаточно и осязания. Устроен же он так: в стену комнаты,
в которой делается съемка какого-либо предмета, вбивается большая игла с
широким ушком. Через ушко продевается длинная, крепкая нить и там же, у стены,
подвешивается на нити грузик. Против стены помещается стол с вертикально
стоящею на нем прямоугольною рамой. К одной из боковых сторон этой рамы
приделывается дверца, которая может открываться и закрываться; в рамочном
отверстии натягивается нитяное перекрестие. Изображаемый предмет помещается на
столе, перед рамою. Вышеупомянутая нить пропускается сквозь раму, а к концу ее
привязывается гвоздь. Таков прибор. Применяется же этот аппарат следующим
образом. Помощнику дается в руку гвоздь, натягивающий длинную нить, с
поручением прикасаться его головкою последовательно ко всем важнейшим точкам
изображаемого предмета. Тогда «художник» передвигает перекрещивающиеся нити
рамы до совпадения их с длинною нитью и отмечает воском точку их пересечения.
После этого помощник ослабляет длинную нить, а «художник», притворив дверцу
рамы, обозначает на дверце место, где пересекаются нити. Поступая так
многократно, можно на означенной дверце наметить основные точки требуемой проекции.
Есть
ли нужда, после этих приборов, в еще большем доказательстве, что перспективный
образ мира – ничуть не естественный способ созерцания? Потребовалось более пятисот лет социального
воспитания, чтобы приучить глаз и руку к перспективе; но ни глаз, ни рука
ребенка, а также и взрослого, без нарочитого обучения не подчиняются этой
тренировке и не считаются с правилами перспективного единства. Люди же и со
специальным обучением впадают в грубые ошибки, лишь только остаются без
вспомогательного геометрического чертежа и доверяются своему зрению, совести
своих глаз. И, наконец, целые группы художников сознательно выражают свой
протест против покорности перспективе.
После
этого неудачного опыта полутысячелетней истории остается только признать, что перспективная картина мира не есть факт
восприятия, а – лишь требование, во имя каких-то, может быть, и очень сильных,
но решительно отвлеченных соображений.
А
если обратиться к данным психофизиологическим, то с необходимостью должно
признать, что художники не только не
имеют основания, но и не смеют
изображать мир в схеме перспективной, коль скоро задачею их признается верность
восприятию.
2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОСЫЛКИ
XIII
В
только что изложенном сопоставлен ряд исторических разъяснений. Пора подвести
итоги и высказаться уже более по существу, хотя разработку соответственных
вопросов, в связи с анализом пространства в изображениях, автор и отлагает до
другой книги.
Итак,
историки живописи, как и теоретики изобразительных искусств, стремятся, или, по
крайней мере, еще недавно стремились уверить прислушивающихся к ним, будто
перспективное изображение мира есть единственное
правильное, как одно только
соответствующее подлинному восприятию, ибо естественное восприятие якобы
перспективно. Сообразно с такою посылкою, отступление от перспективного
единства расценивается, затем, как измена правде восприятия, т.е. искажение
самой реальности, по причине ли графической безграмотности художника, или ради
подчинения рисунка сознательным задачам – орнаментальным, декоративным или, в
лучшем случае, композиционным. Так или иначе, а отступление от норм
перспективного единства оказывается, по означенной оценке, ирреализмом.
Однако
и слово и понятие реальность –
слишком увесисты, чтобы приверженцам того или иного миропонимания было безразлично,
останется ли оно за ними или отойдет противнику. Немало надлежит подумать,
прежде чем сделать такую уступку, если бы она оказалась неизбежной. И то же –
относительно слова естественный. Кому
же не лестно свое счесть реальным и
естественным, т.е. вытекающим без нарочитого вмешательства – из самой
реальности. Сторонники ренессансового жизнепонимания захватили себе и захватали
эти заветные слова, похитив их у платонизма и его средневековых наследников. Но
это нам не основание оставить ценности языка в устах, ими злоупотребляющих:
реальность и естественность надо показывать на деле, а не заявлять на них голые
притязания. Наша задача – вернуть эти слова внукам законных их владетелей.
Как
выяснено ранее, чтобы рисовать и писать «естественно», т.е. перспективно, –
необходимо тому учиться, как целым
народам и культурам, так и вновь всякий раз – отдельным людям. Ребенок не
рисует перспективно; не рисует перспективно и впервые берущийся за карандаш
взрослый, пока не вышколен на определенных шаблонах. Но и учившийся, даже много
учившийся, легко впадает в погрешности, а точнее сказать – искренностью
непосредственности кое-где преодолевает чопорные приличия перспективного
единства. В частности, мало кто пойдет на изображение шара эллиптическим
очерком или уходящей, параллельно плоскости картины, колоннады –
последовательно расширяющимися столбами, хотя именно этого требует
перспективная проекция[44].
Разве редко услышишь обвинения и больших художников в перспективных ошибках.
Такие погрешности возможны всегда, особенно в сложных рисунках по композиции, и
действительно избегаются тогда лишь, когда рисование подменено черчением, с
проведенными вспомогательными линиями. Тогда рисовальщик изображает не то, что видит вне себя или в себе –
воображаемые, но, однако, наглядные, а не отвлеченно мыслимые, образы, – а то,
чего требует расчет геометрических
конструкций, по мнению такого рисовальщика, опирающемуся на слишком
ограниченное значение геометрии, – естественный,
а потому и единственный, допустимый
расчет. Можно ли назвать естественными
те приемы изобразительности, владеть которыми без геометрически-чертежных
костылей не выучиваются даже те, кто многие годы сурово тренировал на них свой
глаз и свое понимание мира. И не указывают ли так ошибки перспективы порою не
слабость художника, а, напротив – его силу, силу его подлинного восприятия,
разрывающего путы социального внушения. Обучение перспективе есть именно
дрессировка. Даже тогда, когда начинающий рисовать добровольно тщится подчинить
свой рисунок ее правилам, это далеко не всегда значит, что он понял смысл, т.е.
художественно-изобразительный смысл перспективных требований: обратившись ко
временам своего детства, не припомнят ли многие, как перспективность рисунка
признавалась ими за непонятную, хотя и почему-то общепринудительную условность,
за usus tyrannus[5],
которому подчиняются вовсе не в силу его правды, а потому что все так же
поступают.
Непонятная,
зачастую нелепая условность – вот что такое перспектива в понимании ребенка.
«Вам кажется пустяком рассмотреть картину и уловить ее перспективу», – говорит
Эрнст Мах[45].
– И, однако же, прошли тысячелетия, прежде чем человечество научилось этому
пустяку, да и многие из нас дошли до этого лишь под влиянием воспитания. – Я
хорошо помню, – продолжает Мах, – что в возрасте около трех лет рисунки, в
которых соблюдается перспектива, казались мне искаженными изображениями
предметов. Я не мог понять, почему живописец изобразил стол на одной стороне
таким широким, а на другой – таким узким. Действительный стол казался мне на
далеком конце столь же широким, как и на ближайшем, так как мой глаз производил
свои вычисления без моего содействия. Что на изображение стола на плоскости
нельзя смотреть как на покрытую красками плоскость, что оно означает стол и должно быть
представлено продолжающимся вглубь – это был пустяк, которого я не понимал. Я
утешаю себя тем, что и целые народы его не понимали.»
Таково
свидетельство позитивиста из позитивистов, кажется уж никак не могущего быть заподозренным
в пристрастии к «мистике».
Таким
образом, все дело – в том, что изображение предмета отнюдь не есть в качестве
изображения тоже предмет, не есть
копия вещи, не удваивает уголка мира, но указывает
на подлинник как его символ.
Натурализм в смысле внешней
правдивости, как подражание действительности, как изготовление двойников вещей,
как привидение мира, не только не нужен, по слову Гёте о собачке возлюбленной и
изображении собачки, но и просто невозможен. Перспективная правдивость, если она есть, если вообще она есть правдивость,
такова не по внешнему сходству, но по отступлению от него, – т.е. по
внутреннему смыслу, – поскольку она символична.
Да и о каком «сходстве», например, стола и его перспективного изображения может
быть речь, коль скоро заведомо параллельные очертания изображаются линиями
сходящимися, прямые углы – острыми и тупыми, отрезки и углы, равные между
собою, – величинами не равными, а не равные величины – равными. Изображение
есть символ, всегда, всякое
изображение, и перспективное и не-перспективное, какое бы оно ни было, и образы
искусств изобразительных отличаются друг от друга не тем, что одни – символичны, другие же, якобы, натуралистичны, а
тем, что, будучи равно не
натуралистичными, они суть символы разных
сторон вещи, разных мировосприятий,
разных степеней синтетичности. Различные способы изображения отличаются друг от
друга не так, как вещь от ее изображения, а – в плоскости символической. Одни
более, другие менее грубы; одни более, другие менее совершенны; одни более, другие
менее общечеловечны. Но природа всех – символична.
И
перспективность изображений отнюдь не
есть свойство вещей, как мыслится в вульгарном натурализме, а лишь прием
символической выразительности, один из
возможных символических стилей, художественная ценность коего подлежит особому
обсуждению, но именно как таковая, вне страшных
слов о своей правдивости и притязаний на запатентованный «реализм».
Следовательно, обсуждая вопрос о перспективе, прямой или обратной, одно- или
много-центренной, обязательно с самого начала отправляться от символических заданий живописи и
прочих изобразительных искусств, с тем чтобы уяснить себе, какое место в ряду
других символических приемов занимает перспективность, что именно она означает
и к каким духовным достижениям приводит. Задачей перспективы, наряду с другими
средствами искусства, может быть только известное духовное возбуждение, толчок, пробуждающий внимание к самой
реальности. Иначе говоря, и перспектива, если она стоит чего-нибудь, должна
быть языком, свидетельницей реальности.
В
каком же отношении символические задания живописи – к геометрическим предпосылкам ее возможности? Живопись и прочие
изобразительные искусства необходимо подчиняются геометрии, поскольку имеют
дело с протяженными образами и протяженными символами. Значит, и тут вопрос –
не о загодя приемлемой прямой перспективе, путем легкого умозаключения:
Если
геометрия верна, то перспектива неоспорима.
Геометрия верна.
Следовательно,
перспектива неоспорима, –
в котором обе посылки возбуждают миллион раздумий, а в каких-то разграничениях
применимости и каких-то разъяснениях действия ее необходимо точно установить
геометрические предпосылки живописи, если хотим, чтобы законность, внутренний
смысл и границы применения того или другого приема и средства изобразительности
могли получить почву к установке.
Отлагая
рассмотрение более глубокое до специальной книги, пока заметим лишь следующее о геометрических предпосылках живописи:
в распоряжении живописца имеется некоторый вырезок
плоскости – холст, доска, стена, бумага и т.д. – и краски, т.е. возможность придавать различным точкам означенной
поверхности различную цветность. Эта последняя, в порядке значимости, может не иметь чувственного смысла и должна пониматься
абстрактно; так, например, в гравюре чернота типографских чернил не понимается
как черный цвет, но есть лишь знак
энергии резчика, или, напротив, отсутствия таковой. Но психофизиологически,
т.е. в основе восприятия
эстетического, это есть цвет. Ради
простоты рассуждения мы можем представить себе, что есть только одна краска, черная, или карандаш.
Задача же живописца – изобразить на указанной плоскости указанными красками
воспринимаемую им, или воображаемую как воспринимаемую, реальность.
Что
же, геометрически говоря, значит
изобразить некоторую реальность?
Это
значит привести точки воспринимаемого пространства в соответствие с точками
некоторого другого пространства, в данном случае – плоскости. Но
действительность по меньшей мере трехмерна, – даже если забыть о четвертом
измерении, времени, без которого нет художества, – плоскость только двухмерна.
Возможно ли такое соответствие? Возможно ли четырехмерный или, скажем для
простоты, трехмерный образ отобразить на двухмерном протяжении, хватит ли в
последнем точек, соответственных точкам первого, или, математически говоря:
мощность образа трехмерного и таковая же двухмерного могут ли быть сравнимы? –
Ответ, естественно напрашивающийся на ум – «Конечно, нет», – «Конечно, нет, ибо
в трехмерном образе – бесконечное множество двухмерных разрезов, и,
следовательно, мощность его бесконечно больше мощности каждого отдельного
разреза». Но внимательное обследование поставленного вопроса в теории точечных
множеств показывает, что он не так-то прост, как это представляется с первого
взгляда, и более того, что данный выше ответ, по-видимому естественный, не
может быть признан правильным. Определеннее: мощность всякого трех- и даже
многомерного образа точно такая же, как и мощность любого двух- и даже
одномерного образа. Изобразить четырех- или трехмерную действительность на
плоскости можно, и можно даже не только на плоскости, но и на любом отрезке
прямой или кривой линии. При этом такое отображение возможно установить
бесчисленным множеством, как арифметическим или аналитическим, так и
геометрических соответствий. Типом первого может служить прием Георга Кантора, а вторых – кривая Пэано или кривая Гильберта[46].
Чтобы
пояснить суть этих исследований с их неожиданными результатами возможно проще,
ограничимся случаем изображения квадрата со стороною в одну единицу длины на
прямолинейном отрезке, равным стороне вышеозначенного квадрата, – т.е. случаем
изображения всего квадрата на его собственной стороне; все другие случаи
довольно легко могут быть рассмотрены по образцу этого. Так вот, Георг Кантор указал аналитический прием, при
помощи которого устанавливается соответствие между каждой точкой квадрата и каждой
точкой его стороны: это значит, что если нам определено, двумя координатами x
и y, местоположение в
любой точке квадрата, то некоторым единообразным приемом мы отыщем координату z,
определяющую некоторую точку стороны квадрата, изображение вышеозначенной точки
самого квадрата; и наоборот, если указана произвольная точка на отрезке –
изображении квадрата, то отыщется и изображаемая этою точкою точка самого
квадрата. Таким образом, ни одна точка квадрата не остается неотображенной, и
ни одна точка изображения не будет пустой, ничему не соответствующей: квадрат будет отображен на своей стороне.
Подобно может быть изображен на стороне квадрата или на самом квадрате – куб,
гиперкуб и вообще квадратовидное геометрическое образование (полиэдроид,
многоячейник) любого и даже бесконечно большого числа измерений. А говоря
общее: любое непрерывное образование любого числа измерений и с любым ограничением
может быть отображено на другом любом образовании, тоже с любым числом
измерений и тоже с любым ограничением; все что угодно в геометрии может быть
отображено на всем что угодно.
С
другой стороны, различные геометрические кривые могут быть построены таким
образом, что кривая проходит через всякую заданную наудачу точку квадрата, –
если вернуться к нашему начальному случаю, – и таким образом устанавливается
соответствие точек квадрата и точек кривой геометрически; привести же в
соответствие точки этой последней с точками стороны квадрата, как пространств
одномерных, уже совсем нетрудно, этим точки квадрата будут отображены на его
стороне. Кривая Пэано и кривая Гильберта пред бесчисленным множеством других
кривых того же свойства ( – например, пред траекторией биллиардного
шара, пущенного под углом к борту, несоизмеримым с прямым; – незамыкающимися
эпициклоидами, когда несоизмеримы радиусы обеих окружностей; – кривыми Лиссажу;
– родонеями и т.д. и т.д. – ) имеют одно существенное преимущество:
соответствие точек двухмерного образа и одномерного ими осуществляется
практически, так что соответствующие точки легко находятся, тогда как другими
кривыми соответствие устанавливается лишь в принципе, но найти на самом деле,
какая именно точка соответствует какой, было бы затруднительно. Не входя в
технические подробности кривых Пэано, Гильберта и других, заметим лишь, что
своими извивами в духе меандров такая кривая заполняет всю поверхность
квадрата, и всякая точка квадрата,
при том или другом конечном числе меандризаций этой кривой, систематически
накопляемых, т.е. согласно определенному единообразному приему, – будет
непременно задета извивами кривой. Аналогичные процессы применимы для
отображения, как это разъяснено выше, чего угодно, на чем угодно.
Итак,
непрерывные множества между собою все равномощны. Но, обладая одинаковой
мощностью, они не имеют одних и тех же «умопостигаемых» или «идеальных» чисел в
смысле Г.Кантора, т.е. не «подобны» между собою. Иначе говоря, нельзя
отображать их друг в друге, не затрагивая их строения. При установке
соответствия нарушается либо
непрерывность изображаемого образа ( – это когда хотят соблюсти
взаимную однозначность изображаемого и изображения – ), либо – взаимная однозначность того и
другого ( – когда сохраняется непрерывность
изображаемого – ).
Приемом
Кантора образ передается точка в точку, так что любой точке образа
соответствует только одна точка
изображения, и наоборот, каждая точка этого последнего отображает только одну точку изображаемого. В этом
смысле, канторовское соответствие удовлетворяет привычному представлению об
изображении. Но другим своим свойством оно чрезвычайно далеко от последнего:
оно, как и все другие взаимооднозначные соответствия, не сохраняет отношений
соседства между точками, не щадит их порядка и связей, т.е. не может быть
непрерывным. Если мы двигаемся весьма мало внутри квадрата, то изображение
проходимого нами пути уже не может быть само непрерывным, и изображающая точка
скачет по всей области изображения. Невозможность дать соответствие точек
квадрата и его стороны; взаимно однозначное и вместе непрерывное, было доказано
Томэ, Нетто, Г.Кантором[47],
но вследствие некоторых возражений Люрота
в 1878 году, Э.Юргенсом[48]
было доказано заново. Этот последний опирается на «предложение о промежуточном
значении». «Пусть точки P квадрата и P'
прямолинейного отрезка соответствуют друг другу; тогда некоторой линии AB
квадрата, содержащей точку P,
должен отвечать целый, содержащий точку P', связный отрезок на прямолинейном отрезке;
следовательно, в силу предположенной однозначности соответствия остальных точек
квадрата, им, в окрестности точки P,
не может уже соответствовать никакой точки на линии в соседстве с точкою P',
откуда ясно и очевидно вытекает невозможность однозначного и непрерывного
отображения между точками линии и квадратом». Таково доказательство Юргенса. С другой стороны, соответствие
Пэано, Гильберта и т.п. не может быть, как это доказано Люротом, Юргенсом[49]
и другими, взаимно однозначным, так что точка линии изображается не всегда
одной-единственной точкой квадрата, да вдобавок это соответствие и не вполне
непрерывно. Иначе говоря, изображение квадрата на линии, или объема на
поверхности, передает все точки, но
не способно передать форму
изображаемого, как целого, как внутренне определенного в своем строении
предмета: передается содержание
пространства, но не его организация. Чтобы изобразить некоторое
пространство со всем его точечным
содержанием, необходимо, образно говоря, или
столочь его в бесконечно тонкий порошок и, тщательно размешав его, рассыпать по изобразительной плоскости,
так чтобы от первоначальной организации его не осталось и помину, или же разрезать на множество слоев,
так что нечто от формы останется, но расположить эти слои с повторениями одних и тех же элементов
формы, а с другой стороны, с взаимным проникновением этих элементов друг через
друга, следствием чего оказывается воплощенность нескольких элементов формы в
одних и тех же точках изображения. Нетрудно за вышеизложенными математическими
соображениями услышать найденные, независимо от математики, левыми течениями
искусства «принципы» дивизионизма, комплементаризма и т.п., при помощи которых
левое искусство разрушало форму и организацию пространства, принося их в жертву
объему и вещности.
В
итоге: изобразить пространство на
плоскости возможно, но не иначе как разрушая форму изображаемого. А между
тем именно форма, и только форма занимает изобразительное искусство. И,
следовательно, тем самым над живописью, вообще над изобразительным искусством,
поскольку оно притязает давать подобие
действительности, произносится окончательный приговор: натурализм есть раз навсегда невозможность.
Тогда
мы сразу вступаем на путь символизма и отрешаемся ото всего трикраты
протяженного точечного содержания, так сказать, от начинки образов
действительности. Мы отрешаемся, одним ударом, от самой пространственной сути
вещей и сосредотачиваемся, – поскольку речь идет о точечной передаче
пространства, – на одной их коже:
теперь под вещами мы разумеем отнюдь не самые вещи, а лишь поверхности,
разграничивающие области пространства. В порядке натуралистическом это,
конечно, есть решительная измена лозунгу правдивости: мы подменили
действительность ее шелухою, имеющею только символическую значимость, только
намекающею на пространство, но нисколько не дающею его непосредственно, точка в
точку. Возможно ли теперь такие
«вещи» или, точнее, кожи вещей изобразить на плоскости? – Ответ, утвердительный
или отрицательный, будет зависеть от того, что разумеется под словом изобразить. Возможно установить взаимно
однозначное соответствие между точками образа и точками изображения, так что
при этом непрерывность того и другого будет, вообще говоря, соблюдена; но – только вообще говоря, т.е. для
«большинства точек», – о точном смысле какового выражения здесь входить в
подробности было бы едва ли уместно. Но при этом соответствии, как бы оно ни
было придумываемо, неизбежны некоторые разрывы
и некоторые нарушения взаимной
однозначности связи, в отдельно стоящих или образующих некоторые непрерывные
образования точках. Иными словами, последовательность и соотношения большинства
точек образа на изображении соблюдены будут, но это еще далеко не означает
неизменности всех свойств, даже геометрических, изображаемого при перенесении
его, чрез соответствие, на плоскость. Правда, оба пространства, изображаемое
как и изображающее, двухмерны, и в этом отношении сродны между собою; но
кривизна их различна, к тому же у изображаемого она и непостоянна, меняясь от
точки к точке; невозможно наложить одно на другое, даже разгибая одно из них, и
попытка такого наложения непременно приведет к разрывам и складкам одной из
поверхностей. Яичную скорлупу, или хотя бы обломок ее, никак не приложить к
плоскости мраморного стола, – для этого надо было бы обесформить ее, раздавив
до мельчайшего порошка; по той же самой причине нельзя изобразить, в точном смысле слова, яйцо на бумаге или холсте.
Соответствие
точек на пространствах разной кривизны непременно предполагает пожертвование какими-то свойствами изображаемого. Конечно,
здесь идет речь только о геометрических свойствах, ради передачи на изображении
каких-то: вся совокупность
геометрических признаков изображаемого быть наличною у изображения никак не может, и, будучи кое в чем
сходно со своим оригиналом, изображение его неизбежно расходится с ним в очень
многом прочем. Изображение всегда скорее не
похоже на подлинник, нежели похоже. Даже случай простейший, изображение
сферы на плоскости, представляющий геометрическую схему картографии,
оказывается чрезвычайно сложным и дал повод изобрести много десятков
разнообразнейших приемов, как проекционных, при помощи прямолинейных лучей,
исходящих из некоторой точки, так и не
проекционных, осуществляемых более сложными построениями или опирающихся на
числовые выкладки. И однако каждый из этик приемов, имея в виду передать на
карте некоторое свойство снимаемой территории, с ее начертаниями географических
объектов, упускает и искажает множество других, нисколько не менее важных.
Каждый прием хорош применительно к строго определенной цели и негоден, коль
скоро ставятся другие задачи. Иначе говоря, географическая карта и есть изображение и не есть таковое, – не заменяет собою подлинный образ земли, хотя бы
в геометрической абстракции, а лишь служит к указанию некоторого его признака. Она изображает, поскольку чрез нее и посредством ее мы обращаемся
духовно к самому изображаемому, и не
изображает, если не выводит нас за пределы себя самого, но задерживает на
себе, как на некоторой лже-реальности, как на подобии действительности, и притязает
на самодовлеемую значимость.
Тут
говорилось о случае простейшем. Но формы действительности бесконечно
многообразнее и сложнее, нежели сфера, и соответственно бесконечно
многообразнее могут быть приемы изображения каждой из этих форм. Если же
принять во внимание сложность и многообразность организации той или другой
пространственной области в действительном мире, то решительно теряется ум в
бесчисленных возможностях при передаче этой области изображением, – теряется в пучине собственной свободы.
Математически нормализировать приемы изображения мира – это задача
самонадеянности безумной. А когда такая нормализация, притязающая к тому же на
якобы математическую доказанность, мало того – на единственность, на
исключительность, приурочивается без дальнейших рассмотрений к одному, частному
из частных, случаев соответствия, тогда кажется, не сделано ли это насмех.
Перспективный образ мира есть не более как один
из способов черчения. Если его угодно защищать кому-либо в интересах
композиционных или каких-либо иных чисто эстетических смыслах, то разговор
будет особый; хотя, кстати сказать, именно в этом направлении о попытках
защищать перспективу что-то не слышно.
Но
ни на геометрию, ни на психофизиологию ссылаться при этой защите нечего; кроме
опровержения перспективы тут ничего не найти.
XIV
Итак,
изображение, по какому бы принципу ни устанавливалось соответствие точек
изображаемого и точек изображения, неминуемо только означает, указует, намекает, наводит на представление подлинника, но
ничуть не дает этот образ в какой-то копии или модели. От действительности – к
картине, в смысле сходства, нет
моста: здесь зияние, перескакиваемое первый раз – творящим разумом художника, а
потом – разумом, сотворчески воспроизводящим в себе картину.
Эта
последняя, повторяем, не только не есть удвоение действительности, в ее
полноте, но не способна даже дать геометрическое подобие кожи вещей: она есть
необходимо символ символа, поскольку самая кожа есть только символ вещи. От
картины созерцатель идет к коже вещи, а от кожи – к самой вещи.
Но
при этом открывается живописи, принципиально взятой, безграничное поле
возможностей. Эта широта размаха зависит от свободы устанавливать соответствие
точек поверхности вещей с точками полотна на весьма различных основаниях. Ни
один принцип соответствия не дает изображения хотя бы геометрически адекватного
изображаемому; и следовательно, различные принципы, не имея ни один
единственного возможного преимущества – быть принципом адекватности, – каждый
по-своему применим, со своими выгодами и своими недостатками. В зависимости от
внутренней потребности души, однако, отнюдь не под принудительным давлением извне, избирается эпохой, или даже
индивидуальным творчеством, в соответствии с задачами данного произведения,
известный принцип соответствия, – и тогда автоматически вытекают из него все
его особенности, как положительные, так и отрицательные. Совокупность этих
особенностей напластовывает первую формацию того, что называем мы в искусстве стилем и манерою. В выборе принципов
соответствия сказывается первичный характер, которым определяется отношение
творящего художника к миру, и потому – самая глубина его миропонимания и
жизнечувствия.
Перспективное
изображение мира есть один из
бесчисленных возможных способов установки означенного соответствия, и притом
способ крайне узкий, крайне ущемленный, стесненный множеством добавочных
условий, которыми определяется его возможность и границы его применимости.
Чтобы
понять ту жизненную ориентировку, из которой с необходимостью следует и
перспективность изобразительных искусств, надлежит расчлененно высказать
предпосылки художника-перспективиста, молчаливо подразумеваемые при каждом
движении его карандаша. Это суть:
Во-первых:
вера в то, что пространство реального мира есть пространство эвклидовское, т.е. изотропное,
гомогенное, бесконечное и безграничное (в смысле Римановского различения[6]),
нулевой кривизны, трехмерное, предоставляющее возможность чрез любую точку свою
провести параллель любой прямой линии, и притом только одну-единственную.
Художник-перспективист убежден, что все построения геометрии, изученной им в
детстве ( – и с тех пор благополучно забытой – ), суть не
только отвлеченные схемы, и притом одни из многих возможных, но жизненно
осуществляемые конструкции физического мира, и притом не только так сущие, но и
так наблюдаемые. Художник обсуждаемого склада верит в прямизну лучей, идущих
пучком из глаза к контуру предмета, – представление, кстати сказать, ведущееся
из древнейшего воззрения, согласно которому свет идет не от предмета в глаз, а
из глаза к предмету; он верит также в неизменность измерительного жезла, при
перенесении его в пространстве с места на место и при поворачивании его от
направления к направлению и т.д. и т.д. Короче, он верит в устройство мира по
Эвклиду и в восприятие этого мира по Канту. Это – во-первых.
Во-вторых:
он, уже вопреки логике и Эвклиду, но в духе кантовского миропонимания, с
царящим над призрачным миром субъективности, – тем хуже, что принудительно, –
трансцендентальным субъектом, мыслит среди всех, абсолютно равноправных, у
Эвклида, точек бесконечного пространства одну исключительную, единственную, особливую по ценности, так сказать
монархическую точку, но единственным определением этой точки служит то, что она
есть местопребывание самого художника или, точнее, его правого глаза, –
оптического центра его правого глаза. Все места пространства, при таком
понимании, суть места бескачественные и равно бесцветные, кроме этого одного,
абсолютно главенствующего, – осчастливленного в качестве резиденции оптического
центра правого глаза художника. Это место объявляется центром мира: оно
притязает отобразить пространственно кантовскую абсолютную гносеологическую
значимость художника. Воистину он смотрит на жизнь «с точки зрения», но без
дальнейшего определения, ибо эта возведенная в абсолют точка решительно ничем
не отличается от всех прочих точек пространства и ее превознесение над прочими
не только не мотивировано, но и по сути всего рассматриваемого мировоззрения не
мотивируемо.
В-третьих:
этот царь и законодатель, «с своей точки зрения», природы – мыслится одноглазым как циклоп, ибо второй глаз,
соперничая с первым, нарушает единственность, а следовательно, – абсолютность
точки зрения, и тем самым изобличает обманность перспективной картины. В
сущности, весь мир относится не к созерцающему художнику даже, а только к его
правому глазу, да к тому же представленному единственною своею точкою –
оптическим центром. Этот-то центр законодательствует мирозданием.
В-четвертых:
вышеозначенный законодатель мыслится навеки и неразрывно прикованным к своему престолу: если он сойдет с этого
абсолютизированного места или даже пошевельнется на нем, то сейчас же
разрушается все единство перспективных построений и вся перспективность
рассыпается. Иначе говоря, смотрящий глаз есть, в этом понимании, не орган
живого существа, живущего в мире и трудящегося, а стеклянная чечевица
камер-обскуры.
В-пятых:
весь мир мыслится совершенно недвижным
и вполне неизменным. Ни истории, ни роста,
ни измерений, ни движений, ни биографии, ни развития драматического действия,
ни игры эмоции в мире, подлежащем перспективному изображению, быть не может и
не должно. Иначе – опять-таки распадается перспективное единство картины. Это –
мир мертвый, или охваченный вечным сном, – неизменно одна и та же оцепенелая
картина в своей замороженной недвижимости.
В-шестых:
исключаются все психофизиологические
процессы акта зрения. Глаз глядит недвижно и бесстрастно, наподобие
оптической чечевицы. Он сам не шелохнется, – не может, не имеет права
шелохнуться, вопреки основному условию зрения – активности, активного
воспостроения действительности в зрении, как деятельности живого существа.
Кроме того, это глядение не
сопровождается ни воспоминаниями, ни духовными усилиями, ни распознаванием. Это
– процесс внешне-механический, в крайнем случае физико-химический, но отнюдь не
то, что называется зрением. Весь психический момент зрения, и даже
физиологический, решительно отсутствует.
И
вот, если соблюдены означенные шесть
условий, то тогда и только тогда возможно
то соответствие кожных точек мира и точек изображения, которое хочет дать перспективная картина. Если же не
соблюдено в полной мере хотя бы одно из вышеперечисленных шести условий, то этот вид соответствия становится
невозможен, и перспектива тогда неизбежно будет в большей или меньшей степени
разрушена. Картина приближается к перспективности постольку и в той мере,
поскольку и в какой мере соблюдаются вышеозначенные условия. А если они не
соблюдены хотя бы частично, если допускается законность хотя бы местного их
нарушения, то тем самым и перспективность перестает быть безусловным
требованием, висящим на художнике, и становится лишь приблизительным приемом передачи действительности, одним наряду со
многими другими, причем степень применения его и место применения на данном
произведении определяется специальными задачами данного произведения и данного
его места, но отнюдь не вообще для всякого произведения, как такового, и во
всех отношениях.
Но
допустим временно: условия перспективности удовлетворены всецело, а
следовательно – и в произведении осуществлено в точности перспективное
единство. Образ мира, данный при таких условиях, походил бы на фотографический
снимок, мгновенно запечатлевший данное соотношение светочувствительной
пластинки объектива и действительности. Отвлекаясь от вопроса о свойствах
самого пространства и о психофизических процессах зрения, мы можем сказать, что
в отношении к действительному созерцанию действительной жизни этот мгновенный
снимок есть дифференциал, и притом дифференциал высшего, по меньшей мере,
второго порядка. Чтобы по нему получить подлинную картину мира, необходимо
несколькократно интегрировать его, по переменному времени, от которого зависят
и изменения самой действительности, и процессы созерцания, и по другим
переменным, – изменчивой апперцептивной массе и т.д. Однако если бы и это все
было сделано, то тем не менее полученный интегральный образ не совпал бы с
истинно-художественным вследствие несоответствия подразумеваемого в нем
понимания пространства с пространством художественного произведения,
организуемых как самозамкнутое, целостное единство.
Нетрудно
узнать в таком художнике-перспективисте олицетворение пассивной и обреченной на всяческую пассивность мысли, мгновенно,
словно украдкой, воровски подглядывающей мир в скважину субъективных граней,
безжизненной и неподвижной, неспособной охватить движение и притязающей на
божескую безусловность именно своего
места и своего мгновения
выглядывания. Это – наблюдатель, который от себя ничего не вносит в мир, даже
не может синтезировать разрозненные впечатления свои, который, не приходя с
миром в живое соприкосновение и не живя в нем, не сознает и своей собственной
реальности, хотя и мнит себя, в своем горделивом уединении от мира, последней
инстанцией и по этому своему воровскому опыту конструирует всю
действительность, всю ее, под предлогом объективности, втискивая в наблюденный
ее же дифференциал. Так именно возникает на возрожденческой почве мировоззрение
Леонардо – Декарта – Канта; так же возникает и изобразительный художественный
эквивалент этого мировоззрения – перспектива. Художественные символы должны
быть здесь перспективны потому, что это есть такой способ объединить все
представления о мире, при которой мир понимается как единая, нерасторжимая и
непроницаемая сеть канто-эвклидовских отношений, имеющих средоточие в Я
созерцателя мира, но так, чтобы это Я было само бездейственным и зеркальным,
неким мнимым фокусом мира. Иными словами, перспективность
есть прием, с необходимостью вытекающий из такого мировоззрения, в котором
истинною основою полуреальных вещей-представлений признается некоторая
субъективность, сама лишенная
реальности. Перспективность есть выражение меонизма и имперсонализма.
Это-то направление мысли обычно и называется натурализмом и гуманизмом, – то,
что возникло с концом средневекового реализма и теоцентризма.
XV
Но,
спрашивается, в какой мере возможно
сомневаться в основательности перечисленных выше шести предпосылок
перспективности, т.е. в самом ли деле перспективное изображение, хотя и одно из
многих отвлеченно-возможных способов изображать мир, есть на деле единственное,
по жизненному наличию выставленных условий его возможности? Иначе говоря,
жизненно ли возрожденское, кантовское миропонимание? Если бы оказалось, что
условия перспективности в действительном опыте нарушаются, то тем самым и
жизненная значимость этого понимания была бы опровергнута.
Итак,
рассмотрим шаг за шагом выставленные нами условия.
Во-первых:
по вопросу о пространстве мира должно сказать, что в самом понятии пространства
различаются три, далеко не
тождественные между собою, слоя. Это именно: пространство абстрактное или геометрическое, пространство физическое и пространство физиологическое, причем в этом последнем,
своим чередом, различаются пространство зрительное, пространство осязательное,
пространство слуховое, пространство обонятельное, пространство вкусовое,
пространство общего органического чувства и т.д., с их дальнейшими более
тонкими подразделениями. По каждому из намеченных делений пространства, крупных
и дробных, можно, отвлеченно говоря, мыслить весьма различно. Воображать, будто
целая серия чрезвычайно сложных вопросов может быть отведена простою ссылкою на геометрическое учение о подобии фигур в
трехмерном эвклидовском пространстве – значило бы даже не прикоснуться к
трудностям поставленной проблемы. Прежде всего, должно быть отмечено, что по разным пунктам выставленного вопроса о
пространстве ответы, весьма естественно, выходят весьма различные. Отвлеченно-геометрически, пространство
эвклидовское есть лишь частный случай различных, весьма разнообразных,
пространств, со свойствами самыми неожиданными в элементарном преподавании
геометрии, но непосредственному отношению к миру объясняющими многое. Геометрия
Эвклида есть одна из бесчисленных геометрий, и сказать, что физическое
пространство, пространство физических процессов, есть пространство именно
эвклидовское – мы оснований не имеем.
Это – лишь постулат, требование так
мыслить о мире и сообразовать с этим требованием все прочие представления.
Требование же самое вытекает из предрешенной их веры в физико-математическое естествознание определенного
склада, т.е. с принципом непрерывности, с абсолютным временем, с абсолютно
твердыми телами и т.д.
Но
допустим временно, что на самом деле физическое пространство удовлетворяет
геометрии Эвклида. Отсюда еще ничего не следует, будто таковым же воспринимает его непосредственный наблюдатель мира. Как
бы ни хотел думать о физическом пространстве живущий в нем, как бы он ни считал
необходимым все прочие свои представления строить согласно основному – об
эвклидовском сложении внешнего пространства, подводя физиологическое
пространство под эвклидовскую схему, тем не менее физиологическое пространство
в него не входит. Не говоря уже о
пространствах обонятельном, вкусовом, термическом, слуховом и осязательном,
которые не имеют ничего общего с
пространством Эвклида, так что даже не подлежат обсуждению в этом смысле,
нельзя миновать и того факта, что даже зрительное пространство, наименее
далекое от эвклидовского, при внимании к нему оказывается глубоко от него
отличным; а оно-то и лежит в основе живописи и графики, хотя в различных
случаях оно может подчиняться и другим видам физиологического пространства, – и
тогда картина будет зрительной транспозицией незрительных восприятий. «Если мы
теперь спросим, что же, собственно, общего имеет физиологическое пространство с
пространством геометрическим, мы найдем лишь очень мало общих черт, – говорит Мах. – И то и другое пространство есть
многообразие трех измерений. Каждой точке геометрического пространства A, B, C, D¼
соответствуют A',
B',
C',
D'¼
физиологического пространства. Если C лежит между B
и D то и C'
лежит между B'
и D'.
Можно также сказать так: непрерывному движению какой-нибудь точки в
геометрическом пространстве соответствует непрерывное движение соответственной
точки в пространстве физиологическом. Что эта непрерывность, принятая для удобства, вовсе не должна быть
обязательно действительной непрерывностью ни для одного, ни для другого,
мы доказывали уже в другом месте. Если и принять, что физиологическое
пространство прирождено нам, оно обнаруживает слишком мало сходства с
пространством геометрическим, чтобы в нем можно было усмотреть достаточную
основу для развитой a priori
геометрии (в смысле Канта). На основе его можно – самое большее – построить
топологию»[50].
– «Если это несходство между физиологическим пространством и геометрическим не
бросается в глаза людям, которые не занимаются специально такими исследованиями,
если геометрическое пространство не кажется им чем-то чудовищным, какой-то
фальсификацией пространства прирожденного, то это объясняется из ближайшего
рассмотрения условий жизни и развития человека»[51]. –
Но «даже при наибольшем своем приближении к пространству Эвклида,
физиологическое пространство еще немало отличается от него. Различие правого и
левого, переднего и заднего наивный человек легко преодолевает, но не так легко
преодолевает он различия верха и низа, вследствие сопротивления, которое оказывает
в этом отношении геотропизм»[52].
В
другом сочинении тот же мыслитель набрасывает некоторые черты этого различия.
«Уже не раз указывалось, как сильно отличается от геометрического пространства,
от пространства Эвклида система наших пространственных ощущений, пространство,
если так можно выразиться, физиологическое. [¼] Геометрическое
пространство повсюду и во всех направлениях одинаково; оно беспредельно и
бесконечно (в смысле Римана). Зрительное же пространство предельно и конечно и
даже, как это показывает созерцание приплюснутого «небесного свода», имеет
неравное во всех направлениях протяжение. Уменьшение размеров тел при удалении,
а равно и увеличение их при приближении, сближают зрительное пространство
скорее с некоторыми представлениями метагеометров, чем с пространством Эвклида.
Разница между «верхом» и «низом», «передом» и «задом» и – если быть точным –
«правым» и «левым» существует как для осязаемого пространства, так и для
зрительного. Для пространства же геометрического такой разницы нет»[53].
– Пространство физиологическое не однородно, не изотропно – это сказывается в
различной оценке угловых расстояний, в различных расстояниях от горизонта, в
различной оценке длин подразделенных и неподразделенных, в различной тонкости
восприятия различными местами ретины и т.д. и т.д.[54]
Итак,
можно и должно сомневаться, чтобы наш мир был в эвклидовском пространстве. Но
если бы это сомнение и устранить, то тем не менее мы наверное не видим и вообще не воспринимаем эвклидо-кантовского
мира, – мы о нем лишь рассуждаем по требованиям теории как о видимом. Между тем
дело художника писать не отвлеченные трактаты, а картины, – т.е. изображать то,
что он действительно видит. Видит же
он, по самому устройству зрительного органа, отнюдь не кантовский мир и, следовательно,
изображать должен нечто отнюдь не подчиняющееся законам эвклидовской геометрии.
Во-вторых:
ни один человек, сущий в здравом уме, не считает свою точку зрения единственной
и признает каждое место, каждую точку зрения за ценность, дающую особый аспект
мира, не исключающий, а утверждающий другие аспекты. Одни точки зрения более
содержательны и характерны, другие менее, притом каждая в своем отношении, но
нет точки зрения абсолютной. Следовательно, художник старается посмотреть на
изображаемый им предмет с разных точек зрения, обогащая свое созерцание новыми
аспектами действительности и признавая их более или менее равно значительными.
В-третьих:
имея второй глаз, т.е. имея сразу по меньшей мере две различных точки зрения,
художник владеет постоянным коррективом иллюзионизма, ибо второй глаз всегда
показывает, что перспективность есть обман, и притом обман неудавшийся. А кроме
того, художник видит двумя глазами больше, чем мог бы видеть одним, и притом
каждым глазом по-особому, так что в его сознании зрительный образ слагается
синтетически, как бинокулярный, и во всяком случае есть психический синтез, но
никак не может уподобляться монокулярной, одно-объективной фотографии на
ретине. И не защитникам перспективы и сторонникам гельмгольцевской теории зрения
ссылаться на незначительность разницы обеих картин, даваемых тем и другим
глазом: этой разницы, по их же теории, как раз достаточно для ощущения глубины,
и без нее эта последняя не сознавалась бы; следовательно, замечая разницу между
изображениями в правом и левом глазу, они уничтожают причину, по которой
пространство воспринимается трехмерным.
Впрочем,
эта разница вовсе не так мала, как это могло бы показаться на первый взгляд.
Для примера мною сделан расчет того случая, когда шар в 20 см поперечником
рассматривается на расстоянии полуметра, причем расстояние между зрачками
принято в 6 см. Тогда тот добавок экваториальной дуги шара, предполагая центр
шара на уровне глаз, который невидим правому глазу, но видим левому, равен
приблизительно одной трети дуги того
же экватора, видимой правым глазом. При более близком рассматривании шара,
отношение того, что видит левый глаз добавочно к видимому правым, будет еще
более, нежели одна треть. Это величины, с которыми приходится иметь дело при
обыкновенных условиях зрения, например, при рассматривании человеческого лица,
и даже при самых малых степенях точности они не могут быть оцениваемы как
величины, которыми можно было бы пренебречь.
Вообще
же, если глазное расстояние обозначить чрез s,
радиус рассматриваемого шара чрез r, а расстояние центра
того шара до середины междуглазного расстояния чрез l,
то отношение x добавочной
экваториальной дуги, прибавляемой к такой же дуге правого глаза левым глазом, к
дуге, видимой правым глазом, выражается достаточно точно равенством:
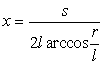
В-четвертых:
художник, даже сидящий на месте, непрестанно двигается, двигает глазами,
головою, корпусом, и его точка зрения непрестанно меняется. То, что должно
называться зрительным художественным образом, – есть психический синтез
бесконечно многих зрительных восприятий с
разных точек зрения, и притом всякий раз двойных; это – интеграл таких двуединых образов. Мыслить о нем как
о чисто физическом явлении – значит ничего не смыслить в процессах зрения и
смешивать quadrata rotunds[7],
– механическое с духовным. Еще и не приступал к теории зрения, тем более –
художественного зрения, тот, кто не усвоил себе как аксиомы
духовно-синтетической природы зрительных образов.
С
другой стороны, в-пятых, вещи
меняются, движутся, поворачиваются к зрителю разными сторонами, растут и
уменьшаются, мир есть жизнь, а не оледенелая недвижность. И, следовательно, тут
опять творческий дух художника должен синтезировать, образуя интегралы частных
аспектов действительности, мгновенных ее разрезов по координате времени.
Художник изображает не вещь, а жизнь вещи по своему впечатлению от нее. И
потому, вообще говоря, большой предрассудок думать, будто созерцать должно в
неподвижности и при неподвижности созерцаемой вещи. Ведь дело в том, какое
именно восприятие вещи требуется изобразить в том или другом данном случае, –
из щели в тюремной стене или с автомобиля. Сам же по себе ни один способ
отношения к действительности не может быть загодя отвергнут. Восприятие
определяется жизненным отношением к действительности, и если художник хочет
изобразить то восприятие, которое получается, когда и он сам и вещи взаимно
двигаются, то надо суммировать впечатления при движении. Между тем это именно
есть наиболее обычное и наиболее жизненное восприятие действительности –
походя, и оно-то именно дает наиболее глубокое познание действительности.
Живописное выражение такого познания – естественная задача художника. Возможна
ли она?
Мы
знаем, что передается движение, хотя бы скачущей лошади, игра чувств на лице,
развивающееся действие событий. Следовательно, нет оснований и то жизненное
восприятие действительности признавать неизобразимым. Разница от более обычного
случая – в том, что чаще изображают движущиеся предметы при сравнительно малой
подвижности художника, тогда как тут и движение художника предполагается
значительным, самая же действительность может быть и почти недвижной или даже
совсем недвижной. Тогда получаются на изображениях дома о трех и о четырех
фасадах, дополнительные поверхности головы и тому подобные явления, известные
нам по древнему художеству. Такое изображение действительности будет
соответствовать недвижной монументальности и онтологической массивности мира,
при активности познающего духа, живущего и трудящегося в этих твердынях
онтологии.
Дети
не синтезируют и мгновенного образа человека, размещая глаза, нос, рот и пр.
порознь, некоординированными на листе бумаги; художник-перспективист не умеет
синтезировать ряды мгновенных впечатлений и некоординированно размещает их на
разных страницах своего альбома. Но и то и другое свидетельствует лишь о
неактивности мысли, расползающейся на элементарные впечатления и неспособной
охватить единым актом созерцания, а следовательно, – и соответствующей ему единою формою, сколько-нибудь сложное
восприятие, и кинематографически разлагающей его на мгновения и моменты. Однако
есть случаи, когда такой синтез нельзя не произвести, и тогда самый рьяный
перспективист отказывается тут от своих позиций. Вертящийся волчок, колесо
пробегающего поезда или скользящего велосипеда, водопад или фонтан ни один
натуралист-художник не остановит на своем изображении, но передаст суммарно
восприятие от игры сливающихся и переходящих друг в друга впечатлений. Однако
мгновенная фотография или зрение при освещении этих процессов электрической
искрой покажет совсем другое, нежели чем изобразил художник, и тут обнаружится,
что единичное впечатление останавливает процесс, дает его дифференциал, общее
же восприятие эти дифференциалы интегрирует. Но если всякий согласится с
законностью такой интеграции, то в чем же препятствие к применению чего-то
равнозначащего и в иных случаях, когда скорость процесса несколько менее?
И
наконец, в-шестых: защитники
перспективы забывают, что зрение художественное есть весьма сложный психический
процесс слияния психических элементов, сопровождаемый психическими обертонами:
на воспострояемом в духе образе нарастают воспоминания, эмоциональные отклики
на внутренние движения, и около пылинок данного чувственно кристаллизуется
наличное психическое содержание личности художника. Этот сгусток растет и имеет
свой ритм – последним и выражается отклик художника на изображаемую им
действительность.
Чтобы
видеть и рассмотреть предмет, а не только глядеть на него, необходимо
последовательно переводить его
изображение на ретине отдельными участками к чувствительному пятну ее. Это
значит, зрительный образ вовсе не дан сознанию как нечто простое, без труда и
усилия, но строится, слагается из последовательно подшиваемых друг к другу
частей, причем каждая из них воспринимается, более или менее, со своей точки зрения. Далее, грань
синтетически прибавляется к грани, особым актом психики, и вообще зрительный
образ последовательно образуется, но
не дается готовым. В восприятии зрительный образ не созерцается с одной точки зрения, но по существу
зрения есть образ многоцентренной перспективы. Присоединяя сюда еще
дополнительные поверхности, пристраиваемые к образу правого глаза – левым, мы
должны признать сходство всякого зрительного образа с исконными палатами, и
отныне спор может быть о мере и желательной степени этой разноцентренности, но
уже не об ее принципиальном допущении. Далее начинается или требование еще
большей подвижности глаза, ради усиленно сгущенной синтетичности, либо
требование, по возможности, закрепления глаза, – когда ищется зрение
разлагающее, причем перспектива стоит на пути этого зрительного анализа. Но
человек, покуда жив, вполне вместиться в перспективную схему не может, и самый
акт зрения с неподвижно-закрепленным глазом ( – забываем о левом
глазе – ) психологически невозможен.
Скажут:
«Но ведь нельзя, все же, видеть сразу трех стен у дома!» – Если бы это
возражение и было правильно, то надо продолжить его и быть последовательным. Сразу нельзя видеть не только трех, но
и двух стен дома, и даже одной. Сразу – мы видим только ничтожно малый кусочек
стены, да и его не видим сразу, а сразу, буквально, – ничего не видим. Но не
сразу – мы обязательно получаем образ дома о трех и о четырех стенах, таким дом
себе представляем. В живом представлении происходит непрерывное струение,
перетекание, изменение, борьба; оно непрерывно играет, искрится, пульсирует, но
никогда не останавливается во внутреннем созерцании мертвою схемою вещи. И
таким именно, с внутренним биением, лучением, игрою, живет в нашем
представлении дом. Художник же должен и может изобразить свое представление
дома, а вовсе не самый дом перенести на полотно. Эту жизнь своего
представления, дома ли, или человеческого лица, схватывает он тем, что от
разных частей представления берет наиболее яркое, наиболее выразительное, и
вместо длящегося во времени психического фейерверка дает неподвижную мозаику
отдельных, наиболее разительных его моментов. При созерцании же картины глаз зрителя, последовательно проходя по этим
характерным чертам, воспроизводит в духе уже временно-длительный образ
играющего и пульсирующего представления, но теперь более интенсивного и более
сплоченного, нежели образ от самой вещи, ибо тут яркие разновременно
наблюдаемые моменты даны в чистом виде, уже уплотненно, и не требуют затраты
психических усилий на выплавку из них шлаков. Как по напетому валику фонографа,
скользит острие яснейшего зрения вдоль линий и поверхностей картины с их
зарубками, и в каждом месте ее у зрителя возбуждаются соответственные вибрации.
Эти-то вибрации и составляют цель
художественного произведения.
Вот примерный
мысленный путь от предпосылок натурализма к перспективным особенностям
иконописи. Может быть совсем иное, чем в натурализме, понимание искусства, исходящее
из коренной заповеди о духовной самодеятельности; автору лично – ближе это
последнее. Но на почве такого понимания – вопроса о перспективе вообще не
подымается, и она остается столь же далекой от творческого сознания, как и
прочие виды и приемы черчения. В настоящем же рассмотрении требовалось изнутри
преодолеть ограниченность натурализма и показать, как fata volentem ducunt,
nolentem trahunt[8]
– к освобождению и духовности.