[П.А.Флоренский] | [Библиотека "Вехи"]
5. СТРОЕНИЕ СЛОВА
1.
В употреблении слово
антиномично сопрягает в себе монументальность и восприимчивость. Очевидно, в нем, самом, должно искать основание
как того, так и другого; и следовательно, антиномичность функции слова
определяется строением его. Обращаясь
в эту сторону, сразу же усматриваешь, что наряду с неразложимым единством слово
образует целый мир многообразных внутренних отношений.
Речи, чтобы быть
общезначимой, необходимо опираться на некоторые первичные элементы, себе тождественные
при всех взаимоотношениях и потому представляющиеся атомами речи. Так понятое
слово будет неподвижным, данным моему использованию, но не мною создаваемым.
Но чтобы быть от меня исходящей, речи необходимо
подчиняться малейшим тонкостям моей
мысли, моей личности, и притом вот в
этот, настоящий раз; а для этого она не должна содержать в себе ничего
твердого, никаких уже далее неподатливых комьев, зерен – вся пластичная, во
всем имеющая сложность организации, так чтобы каждый элемент речи способен был
принять оттиск именно моего способа
пользования речью, именно моей
духовной потребности, и притом не вообще моей, а в этот, единственный в мировой
истории, раз.
Противоречивость требований,
предъявляемых речи, может быть удовлетворена только в том случае, когда самое
слово в своем строении содержит равносильную той, функциональной,
противоречивость структурную: твердости и текучести, причем и та и другая
должны быть, однако, проработаны человеческим духом. Иначе говоря, обе должны
быть формами слова, слагать собою
форму слова.
2.
Действительно, лингвистика
давно различала в слове его внешнюю
форму от формы внутренней[1],
или: слово как факт языка, существующего до меня и помимо меня, вне того
или другого случая применения, и слово как факт личной духовной жизни, как случай
духовной жизни.
Внешняя
форма
есть тот неизменный, общеобязательный, твердый состав, которым держится все
слово; ее можно уподобить телу
организма. Не будь этого тела – не было бы и слова как явления
надындивидуального; это тело мы получаем, как духовные существа, от родного
народа и без внешней формы не участвовали бы в его речи. Это тело безусловно
необходимо; но жизненная сила его, самого по себе, только тлеет, ограниченная
узкими пределами, и неспособна согревать и освещать окружающее пространство.
Напротив, внутреннюю форму слова естественно
сравнить с душою этого тела,
бессильно замкнутой в самое себя, покуда у нее нет органа проявления, и
разливающую вдаль свет сознания, как только такой орган ей дарован. Эта душа
слова – его внутренняя форма – происходит от акта духовной жизни. Если о внешней форме можно, хотя бы и
приблизительно точно, говорить как о навеки неизменной, то внутреннюю форму правильно понимать как постоянно рождающуюся, как
явление самой жизни духа.
Я не могу, не разрывая своих
связей с народом, к которому принадлежу, а чрез свой народ – с человечеством, –
не могу изменять устойчивую сторону слова и сделать внешнюю форму его
индивидуальной, зависящей от лица и случая употребления. Индивидуальная внешняя
форма была бы нелепостью, подрывающей самое строение языка. Даже в тех случаях,
когда, удачно или неудачно, новообразование внешней формы происходит, оно
делается не как обычное
приспособление к индивидуальному случаю – внутренней формы, а как всенародное
языковое творчество, как вклад в сокровищницу языка. Отныне он имеет войти в
общее потребление, если он удачен, или должен быть исключен из данного случая,
если он не оказался народно-творческим: с правом или самозванно, но такое
новообразование внешней формы делается от лица всего народа и его
силою, но никак не по личному замыслу. Если, например, в последние годы
голубизну небесную один из поэтов стал называть голубелью[2],
то, может быть, это слово войдет в язык, может быть, не будет им усвоено, но во
всяком случае оно предложено именно как слово, как нечто хотя и не
употреблявшееся, но предсуществовавшее в сокровищнице языка. Не без причины
говорится о «счастливо найденном» выражении, но никогда о – сочиненном, и
всякий автор огорчился бы, если бы услышал такое выражение, примененное
применительно к собственному языку. Книга – творится или сочиняется,
изобретается, но выражения и слова не творятся и не сочиняются, а находятся или
отыскиваются, обретаются.
Напротив, внутренняя форма должна быть
индивидуальною; ее духовная значимость – именно в ее приспособленности к
наличному случаю пользования словом. Неиндивидуальная внутренняя форма была бы
нелепостью. Если нельзя говорить языком своим,
а не народа, то нельзя также говорить от народа, а не от себя: свое мы высказываем общим языком.
Процесс речи есть
присоединение говорящего к надындивидуальному, соборному единству,
взаимопрорастание энергии индивидуального духа и энергии народного,
общечеловеческого разума. И поэтому в слове, как встрече двух энергий, необходимо есть форма и той и другой. Внешняя
форма служит общему разуму, а внутренняя – индивидуальному.
3.
Однако внешняя форма, именно
как внешняя – некоторой разумности, сама необходимо должна быть
двуединой, имея объективное существование, но – не как процесс физический или
физиологический, как некоторое явление разума. Если продолжать прежнее
сравнение слова с организмом, то в этом теле
слова подлежит различению: костяк,
главная функция которого сдерживать тело и давать ему форму, и прочие ткани, несущие в себе самую жизнь. На
языке лингвистики первое называется фонемой
слова, а второе – морфемой. Ясно:
морфема служит соединительным звеном между фонемой и внутренней формой слова,
или семемой[3].
Таким образом, строение
слова трихотомично. Слово может быть
представлено как последовательно обхватывающие один другой круги, причем ради
наглядности графической схемы слова полезно фонему его представлять себе как основное ядро, или косточку,
обвернутую в морфему, на которой в
свой черед держится семема.
Таково строение слова, если
исходить из функции слова. Это схематическое построение легко заполняется своим
содержанием, как скоро обратиться к психофизиологическому анализу слова.
4.
Как внешний процесс мира
физического слово прежде всего есть звук
или хотя бы преднамечающийся звук: как таковое оно есть fwn», откуда и название
его костяка. Но этот звук возникает не чисто физически, а физиологически и
психофизиологически. Он неотделим от артикуляционных усилий, его производящих,
и слуховых усилий, его воспринимающих; а усилия эти неотделимы от первичных
психических элементов, мотивирующих самое усилие. Итак, некоторое ощущение,
чувствование, волнение плюс усилие артикуляции и слуха, плюс звук – все это
вместе образует один состав
психофизического костяка слова – фонемы.
Но содержание слова не
ограничивается вышеперечисленным, хотя это последнее и подразумевает. Слово
есть не только ощущение и прочее, но и представление – понятие. Оно ставится
нами предметно, метается пред[4],
пред нами как нечто вне нас; и это
может быть достигнуто чрез подведение наличных психических данностей под
некоторое общее понятие: чтобы стать предметным, ощущение отрывается от слепой
своей данности и подвергается категориальному синтезу. Так образуется морфема слова, от morf» ( – что
этимологически и по смыслу соответствует латинскому forma, т. е, form»[5]
– ) в смысле внешнего вида, как выражающего закон или норму бытия. Общее
понятие, под которое подводится здесь первичная данность, есть коренное
значение слова, его первоначальное или истинное значение, њtumon, почему в этом
разрезе рассматриваемое слово подлежит преимущественно этимологии. Но
этимологическое обобщение данности подвергается некоторой чеканке, и тогда
корень, обросший рядом вторичных элементов, получает грамматическую форму, завершающуюся окончанием, – посредством которого тема плотно входит в состав
речи, образуя, другими словами, нечто целое. Теперь первичная данность
прочеканена грамматическими, а чрез них – и логическими категориями.
Наконец, это живое и
разумное, но еще неподвижное в своей монументальности тело приобретает
гибкость, когда облекается в свою душу – в свое знаменование – shmas…on, в свой
смысл, когда становится индивидуально значащим (shma…nw «имею значение,
означаю»). Однако эту семему слова
неправильно было бы представлять себе чем-то определенным, устойчивым, как было
бы ложно видеть в наличной неопределенности ее – временный, но устранимый
впоследствии недостаток: в ходе данной живой речи семема всегда определенна и
имеет завершенно точное значение. Но это значение меняется даже в пределах одной речи иногда весьма существенно,
включительно до противоположности: ироническое, например, или саркастическое
словоупотребление меняет семему на прямо противоположное. Так, если собеседник
спрашивает меня, тепло ли на улице, а я иронически отвечаю «тепло», то семема
слова «тепло» в устах спрашивавшего и семема в моих устах, хотя слова
поставлены рядом, были прямо противоположными, ибо под моим «тепло» разумелось
«ничуть не тепло, а холодно»; мое «тепло» было по семеме равносильно семеме «холодно»,
если бы употребил это слово мой собеседник, – да вдобавок подчеркнуто, усиленно
вложенным в семему моего «тепло» пояснением, что даже нелепо предполагать,
будто на дворе сейчас может быть тепло.
Итак, семема слова
непрестанно колышется, дышит, переливает всеми цветами и, не имея никакого
самостоятельного значения, уединенно от этой
моей речи, вот сейчас и здесь, во всем контексте жизненного
опыта, говоримой, и притом в данном
месте этой речи. Скажи это самое слово кто-нибудь другой, да и я сам в другом
контексте – и семема его будет иная; мало того, более тонкие его слои изменятся
даже при дословном повторении той же самой речи и даже тем же самым лицом.
Возможность различного истолкования одной и той же драмы различными артистами и
даже одним и тем же при повторениях – наглядное доказательство сказанного.
Слова неповторимы; всякий раз они говорятся заново, т.е. с новой семемой, и в
лучшем случае это бывает вариация на прежнюю тему. Объективно единым (оставляя
пока в стороне вопрос мистического сочувствия и сомыслия, телепатический момент
беседы), объективно единым в разговоре бывает только внешняя форма слова, но никак не внутренняя.
«Мысли говорящего и
понимающего сходятся между собою только в слове», т.е. в неизменной части его,
отмечает А.Потебня. «Графически это
можно было бы выразить двумя треугольниками, в которых углы B,
A, C и D, A,
E, имеющие общую вершину A и образуемые
пересечением двух линий BE и CD, необходимо равны друг
другу, но все остальное может быть бесконечно разнообразно. Говоря словами
Гумбольдта, «никто не думает при известном слове именно того, что другой […] »
Всякое понимание есть вместе непонимание, всякое согласие в мыслях – вместе
несогласие»[6].
Мы говорим ради семемы, ради значения слова; нам важно
высказать именно то, что мы хотим
высказать. Нам нет дела до общего или даже всеобщего этимологического значения
слова, коль скоро этим словом не выражается именно наше, заветное, с его тончайшими оттенками. Но именно потому, что
семема безусловно непринудительна, вполне неустойчива, моя, личное мое проявление, она не дана в чувственном восприятии и потому не может посредством его
передаваться. Речь страдает глубочайшей противоречивостью.
Однако мы не верим в непреодолимость
этого противоречия: это значит, мы верим в сверх-чувственное его преодоление,
преодоление его артикуляциями и восприятиями иного, чем чувственный, порядка.
Мы верим и признаем, что не от разговора мы понимаем друг друга, а силою
внутреннего общения, и что слова способствуют обострению сознания, сознанию уже
происшедшего духовного обмена, но не сами по себе производят этот обмен. Мы
признаем взаимное понимание и тончайших, часто вполне неожиданных отрогов
смысла: но это понимание устанавливается на общем фоне уже происходящего
духовного соприкосновения.
5.[7]
Вглядимся в строение слова
теперь уже более конкретно. Так, если возьмем слово «береза», то как внешний факт налична некоторая артикуляция и
происходящие отсюда звуки б-е-р-е-з-а;
это – костяк слова. Но он не мертв
психически: с указанными звуками связывается некоторая духовная значимость,
хотя этой коренной значимости,
держащей на себе все дальнейшее, еще очень далеко до смысла слова, как разумеем мы его обычно. Фонема б-е-р-е-з-а и необходимые для нее
артикуляции отнюдь не обозначают еще дерево известного вида, ни тем более –
того поэтического содержания, которое в нашем сознании неотъемлемо от образа
белоствольной любимицы русского народа. Плоть этого слова определяется его
этимоном – от корня бере,
первоначально брњ, ознћачающего светиться, гореть, белеть – брезжить[8].
Береза или брњза имеет в виду впечатление: «брезжится», «белеет», «мерцает
белизною среди лесных стволов» и т.п. Но это коренное впечатление не остается
неопределенным категориально: суффикс з
и окончание а отливают это
впечатление белизны в грамматическую форму имени существительного женского
рода, единственного числа, именительного падежа. Иначе говоря, это впечатление
брезжения протолковано как вещь или существо, и притом существо женское и
т.д. Теперь береза рассматривается
под категорией субстанциональности, причем эта субстанция признается могущей
иметь много разных признаков; но внешняя форма слова отмечает только один –
белизну, белоствольность. Корень слова дает содержание, а грамматическая форма
– логическую форму вещности, или категорию субстанциональности. Таким образом
это данное впечатление белизны, закрепленное нашим отзвуком на него,
артикуляционно-звуковой реакцией или фонемой, присоединяет тут к себе чрез морфему
понятие: во-первых, качества, а
во-вторых – существа. С морфемою, фонема уже не есть реакция на единичное впечатление, но – воплощает в нее
понятия о всех существах – субстанциях, имущих признак белизны, брезжения.
Морфема подымает слово от чувственного мышления к грамматическому. Понятно, что
оно, будучи аналитическим, раздробляющим, выделяющим из наглядных образов
отдельные признаки, должно давать неподвижную часть слова, ибо в таковой, по ее
аналитической несложности, нечему изменяться. Это – внешняя форма слова.
Что касается до семемы слова
береза, то по самому существу дела
душу слова невозможно исчерпать хотя бы приблизительно. Она есть все то, что
осадилось с течением веков на внешней форме, хотя и не оставляя вещественных
или иных извне учитываемых следов. Тут осело то, например, что думал о березе
первобытный человек, т.е. как о живом существе, дриаде или гамадриаде[9],
со всеми мифами, случаями, воспоминаниями, в которых принимало участие
белоствольное дерево[10]. Но
сюда относится также и то, что думает о нем ботаник в связи с классификационным
местом Betula alba L., в связи с
представлением о ней биолога как о растительном организме, состоящем из
клеточек, сложенном определенными тканями, растущем, дышащем, питающемся и
размножающемся по определенным законам, распространенным в определенных лесных
сообществах, с определенною ботанико-географическою характеристикою и т.д. и
т.д., причем имеется в виду вся совокупность научных знаний и проблем, прямо
или косвенно сделавших своим предметом это дерево. Далее, семема березы – это
мысль о березе и образы ее в сознании художника, припоминающего произведение,
где изображена береза, свои собственные художественные замыслы около нее и т.д.
Еще, это – воспоминание причастного к словесности, когда он сопоставляет вокруг
занимающего нас слова отрывки народной поэзии и другие словесные произведения,
затрагивающие березу, а также лингвистические соображения об этом слове и его
исторических судьбах, хотя бы, например, вроде излагаемых сейчас. Еще, это –
мысль философа или богослова, когда в березе предчувствуется им символ Мировой
Души, и т.д. и т.д. Но, кроме всего прочего, это – совокупность почти
неуловимых эмоциональных оттенков, которыми определяется самое проникновенное
из того, что говорящий, вот сейчас, в данном случае, вкладывает в произносимое
им слово береза: может быть,
растроганности воспоминаниями о далекой родине, а может быть, хозяйственной
скорби о дороговизне дров и т.д. до бесконечности.
6.
Итак, этимон, или, по
Потебне, «ближайшее этимологическое значение слова», «объективное значение
слова»[11],
всегда заключает в себе только один
признак, и потому, как и звук, слово, это коренное его значение есть нечто общее для всех людей, говорящих на
данном языке: оно есть общий корень всех разнообразных проявлений семемы.
Внешняя форма, тело слова
подлежит общеобязательному учету и потому общеобязательной нормировке; но живет
оно не для себя, а для своей души. Душу
же слова образует объективное его значение, содержащее сколько угодно
признаков, имеющее полутона духовной окраски, ассоциативные обертоны: это целый
мир смысла, тут свои пропасти и вершины; но сюда нет доступа внешнему учету и
извне предъявляемым требованиям. Семема данного слова в моем словоупотреблении может быть удачна или неудачна; но никому не
принадлежит указывать или заказывать пути ее формирования. Она бесконечно шире
своей морфемы, как последняя – бесконечно шире своей фонемы. Семема способна
беспредельно расширяться, изменяя строение соотнесенных в ней духовных
элементов, менять свои очертания, вбирать в себя новое, хотя и связанное с
прежним содержание, приглушать старое, – одним словом, она живет, как и всякая душа, и жизнь ее – в непрестанном становлении:
Слова – хамелеоны,
Они живут спеша.
У них свои законы,
Особая душа.
Они спешат меняться,
Являя все цвета;
Поблекнут – обновятся,
И в том их красота…
(К. Бальмонт)
Фонема слова есть,
следовательно, символ морфемы, как морфема – символ семемы; эта последняя есть
цель и смысл морфемы, а морфема – цель и смысл фонемы. Если в фонеме нужно
видеть духовную реакцию на впечатления, и, следовательно, процесс, которым
осознается ощущение, то морфема есть духовная реакция на уже сознанное ощущение
и, следовательно, процесс, которым образуется понятие – представление; наконец,
семема, как духовная реакция на последнее, служит образованию идеи. Еще: фонема
– впечатление впечатления или ощущение; морфема – ощущение ощущения или
представление – понятие; семема же – понятие понятия или идея.
7.
Тут в лингвистическом
анализе слова подтверждается каббалистическое и александрийское,
преимущественно Филона-Иудея, учение[12], а
чрез него и многих святых отцов о троякости
смысла Священного писания. А именно, согласно этой герменевтике, каждое место и
слово Писания имеет значение, во-первых, чувственно-буквальное, во-вторых,
отвлеченно-нравоучительное и, в-третьих, идеально-мистическое, или
таинственное.
Действительно; но не только
Писание, но и всякое удачное слово имеет три соотнесенных между собой слоя, и
каждый может подвергаться особому толкованию. В удачной речи целесообразна не
только семема, смысл ее, но и внешняя форма по обеим своим сторонам,
и находится в теснейшей связи с предметом речи. Толковнику надлежит, конечно,
углубиться во все три напластования толкуемого места. Тогда и получится, что
известному ряду впечатлений соответствует ряд понятий-представлений, а этому
последнему – ряд идей.
Усвоение читаемого или
слушаемого происходит одновременно на трех
различных этажах: и как звук, вместе
с соответственным образом, и как понятие,
и, наконец, как трепетная идея,
непрестанно колышущаяся и во времени многообразно намекающая о надвременной
полноте. Каждый из этих рядов порождается особой духовной деятельностью:
мышлением психологическим, драматическим, и как называют иногда, логическим,
хотелось бы думать – от LТgoj[13], или
чувственностью, рассудком и разумом. Эти три духовные функции соответствуют
тому, что Филон называл действительностями тела, души и духа. А внимательное
пользование ими есть условие поэзии как символической, когда слово,
гармонически развитое в трех своих сторонах, воздействует на весь духовный организм, поддерживая
каждое свое действие двумя другими.
8.
Каждый из трех моментов
слова есть сам некоторое направление духовной деятельности, и многообразие
раскрывающегося здесь весьма велико. На каждом этаже своего строения слово есть
мир.
Рассмотрим для примера одно слово, самое заурядное, но более
внимательно, чтобы убедиться, как много дается нам в каждом слове, хотя бы мы и
не усваивали всего сознательно.
Обратимся к фонеме. Вникнуть в нее – значит
рассмотреть, во-первых, то чувство усилия, которым артикулируются голосовые
органы, и шире – все тело, ибо, в сущности, говорим мы не гортанью и языком
только, но и всем телом. Так, одно слово произносится легко, другое – трудно,
одно – приятно, другое – неприятно; самая артикуляция вызывает иногда
соответственное содержанию слова настроение, например, улыбка как артикуляция заставляет улыбнуться. Во-вторых, необходимо
вглядеться в артикуляционные сокращения мускулов и все сопутствующие
физиологические процессы, равно как и переживание их в виде известных добавочных чувствований, придающих
особый тон нашему волевому импульсу.
Такова, например, неподатливость
известного рода артикуляций, приятное или неприятное ощущение, вызываемое
артикуляцией, и т.д.[14]
Наконец, в-третьих, необходимо рассмотреть самые звуки, испускаемые голосовыми органами, в результате артикуляции;
и, в-четвертых, слуховые впечатления от этих звуков, поскольку слышание звука –
как слушающим, так и самим говорящим – есть сложный психофизиологический акт.
Всякому, прикасавшемуся к
подобным вопросам, должна быть понятна огромная сложность процессов по каждому
из указанных пунктов. И усилие есть
большой психический процесс, особенно когда дело идет об игре мускульных
сокращений, столь тонких, как голосовые. Расстройство речи от, по-видимому,
ничтожнейших причин, как чисто психических причин, так и физиологических,
непроизвольное изменение голоса от самых разнообразных факторов достаточно
убеждает в непростоте голосового усилия. Не менее сложны и процессы самого сокращения мускулов, как и
сопровождающие их добавочные восприятия: возможность бесконечного многообразия
в оттенках речи опирается на эту сложность. Подобно этому не менее сложны и
процессы слуха, кстати сказать, и до сих пор не имеющие достаточного анализа.
Но, не касаясь этих пунктов, рассмотрим несколько подробнее самые звуки.
Прежде всего, что значит
изучить звуки слова? – Звук характеризуется тремя данными: высотою, силою, окраскою,
если не считать не очень отчетливо сознаваемого его местопроисхождения и –
места и длительности его во времени. Записывающий прибор аббата Руссело[15]
или симограф Вердена[16],
равным образом и многие другие аппараты того же назначения позволяют достаточно
точно вникнуть в звуковое строение слова, причем это строение сказывается
весьма сложно.
Возьмем для примера слово кипяток, разученное в звуковом
отношении В.А.Богородицким. Запись соответствующих этому слову вибраций
произведена посредством Руссело. Богородицкий дает нотную транскрипцию своей
записи; значком ~~, когда он
помещает<ся> над нотою, обозначается, что истинный тон несколько выше ее,
а когда значок ниже ноты, то и тон несколько ниже; кроме того, знаком
соединения Ç обозначается тон
промежуточный между соединяемыми им нотами. Но при этом нотная транскрипция
передает лишь основной тон звучания, между тем как на самом деле мелодия слова
богато гармонизирована тонами верхними, суммовыми, разностными,
разнообразнейшими ширмами и другими звуками, превращающими слово в целый
оркестр. Итак, при упрощении словозвучания до одной мелодии результат записи
слова кипяток представляется так:
1. Произношение неударяемого слога ки есть восходящий звукоряд, имеющий наибольшую задержку в начале.
2. Слог пя, непосредственно предшествующий
ударяемому, имеет почти ту же высоту или даже ниже начального слога ки; тон гласного а тут не восходящий, а задержку имеет в конце.
3. В ударяемом слоге ток тон гласного почти все время восходит
и понижается лишь на последних вибрациях, а остановка приходится на самой
верхней ноте[17].
Приняв теперь но внимание,
что каждая из написанных нотных строчек должна была бы быть замененной целой
партитурой, необходимо говорить о фонеме как о сложной системе звуков даже
самой по себе, помимо других элементов слова, являющейся целым музыкальным
произведением. Независимо от смысла слова, она сама по себе, подобно музыке,
настраивает известным образом душу. Нет нужды, что это музыкальное восприятие
бессознательно, тем глубже западает оно в душу, не принявшую мер к
самоограждению, тем проникновеннее вибрация души откликается этой музыке. Мы
сказали – души в смысле целостности
личности, потому что весь организм,
раз он воспринимает, вибрирует сообразно слушаемому. Поэт, остро и даже во вред
уравновешенности звука со смыслом чувствовавший музыкальную аффекцию слова,
давно уже отметил:
Есть речи – значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.
Как полны их звуки
Безумством желанья!
В них слезы разлуки,
В них трепет свиданья.
Не встретит ответа
Средь шума мирского
Из пламя и света
Рожденное слово;
Но в храме, средь
боя
И где я ни буду,
Услышав, его я
Узнаю повсюду.
Не кончив молитвы,
На звук тот отвечу
И брошусь из битвы
Ему я навстречу.
(Лермонтов)
Поэт настаивает именно на звуке слова, как могущественно
действующего, не на значении – «темном иль ничтожном». И когда эта фонема
падает на благоприятную почву, звуковая энергия ее развертывается в звучании
всего существа:
Их кратким приветом,
Едва он домчится,
Как Божиим светом
Душа озарится.
(Из первой редакции)[18]
Да, не в смысле этих речей,
а в звуке – их действенность, полная глубокого содержания, внутренне
благообразного:
Надежды в них дышат,
И жизнь в них играет.
Их многие слышат,
Один понимает.
Один, т.е. тот, чье существо
способно вибрировать ответно на эти звуки; и потому
Лишь сердца родного
Коснутся в дни муки
Волшебного слова
Целебные звуки,
Душа их с моленьем,
Как ангела встретит,
И долгим биеньем
Им сердце ответит.
(Из
первой редакции)
Эта иррациональная
действенность слова, хочется сказать, понятна,
т.е. понятна как аналогичная действенности чистой музыки. В этом сложном
музыкальном произведении, которое мы называем фонемой слова, каждый тон вносит нечто в общее
впечатление, а хорошо известно и в этом смысле кажется понятным, что в музыке
достаточно изменить иногда одну ноту, по тональности ли, или длительности, или
акценту, или тембру, как произведение получит существенно иной характер. Чем тоньше
«совесть ушей», тем более значительным, а потому и ответственным сознается
слово как явление звука.
9.
Посмотрим теперь, чем
представляется разбираемое слово кипяток
мышлению грамматическому. Первый вопрос о коренном значении. Слово кипяток – позднейшее, и чтобы выяснить
его корень, необходимо обратиться к лежащему в основе его глаголу кипеть или церковнославянскому кљпћњти. Сокоренными с кљпњти
и родственными глаголам славянских языков являются: санскритское kup-jati – приходить в движение,
возбуждаться, латинское cup-io горячо желаю, киплю страстью, немецкое hüpfen, hupfen, что значит прыгать,
скакать, а также родственные глаголы немецких диалектов, имеющие то же
значение (нижненемецкое hüpfen, hupfen, hopsen,
hoppan,
восточнопрусское huppaschen). Это сочетание гортанной + о или у + губной
имеется с соответственными изменениями и в греческом языке. Несуществующее ныне
kub…zw дало начало глаголу kubistЈw, что значит лететь кубарем, кидаться головою вниз, кувыркаться, перекидываться
навзничь, прыгать через голову, скакать, танцевать. Отсюда происходит
kubist»r или kubistht»r – становящийся на голову, кувыркающийся,
фигляр, плясун. Того же корня греческое kЪbh – голова, соответствующее русскому КУПА, т.е. верхушка, например, купы
деревьев и купол[19].
Того же корня и слово куб,
первоначально означавшее игральную
кость, которую подбрасывают вверх, так что она подскакивает. Куб, вопреки геометрическому пониманию
этого термина, значит скакун, летящий
вверх, прыгун. Подтверждение тому, что kЪboj действительно значит игральная
кость в смысле попрыгунчик, находится и в древнерусском названии этого предмета
сигою, от сигати: «ни единому или от клирик или от простьць сигами лћкъмь играти»
(переводится в 50-м постановлении Трулльского Собора[20]
выражение kubeЪein – alea ludere и еще: «дiякон сигами играя»
(kЪboij, aleae)… да извьржен будет»).
Что b действительно может
быть равносильной p, на это, кроме общих законов фонетики, указывает, быть
может, и прямой переход b в p в слове kЪproj - цифра (kЪproj kefЈlaion ўriJmoа
– цифра глава числу)[21].
Итак, корень кип cup, къ1п, kup,
kub (соответствующий санскритскому (![]() – делать фокусы,
фиглярствовать, по Прелльвицу[22])
означает стремительное движение вверх,
первоначально относимое к скаканию, к подпрыгиванию. Поэтому кипеть, кљпњти собственно означает прыгать через голову, плясать, скакать.
Таково объективное значение слова кипяток.
Оно, следовательно, не содержит ни малейшего указания на тепловые ощущения. Кипяток – значит плясун, прыгун, скакун, внезапно и быстро возвышающий голову.
– делать фокусы,
фиглярствовать, по Прелльвицу[22])
означает стремительное движение вверх,
первоначально относимое к скаканию, к подпрыгиванию. Поэтому кипеть, кљпњти собственно означает прыгать через голову, плясать, скакать.
Таково объективное значение слова кипяток.
Оно, следовательно, не содержит ни малейшего указания на тепловые ощущения. Кипяток – значит плясун, прыгун, скакун, внезапно и быстро возвышающий голову.
Вот музыка некоторого слова и вот его
этимон. Трудно было бы мыслить случайность их связи, хотя, по неизученности
звуковой символики, трудно было бы показать внутреннее соответствие фонемы и
морфемы. Но примерно можно было бы наметить следующее:
фонема
I II III
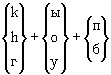
из трех <звуков> могла бы быть понятой, в порядке натурального
объяснения, как естественный звук прыжка, т.е. при подпрыгивании. В то время
как ноги уже стали на земле, верхняя часть туловища, двигаясь по инерции вниз,
внезапно сжимает грудную клетку. Вырывающийся воздух производит звук
приблизительно такой, какой произносят, изображая ребенку из колена лошадку: hop,
hop, hop или hup.
Звук hup, къ1п, kub – естественное следствие механики тела
при подпрыгивании, причем первая группа звуков соответствует разверзанию струею
воздуха гортани, вторая – самому процессу выдыхания, но не активно свободного,
а несколько насильственного, когда губы стремятся быть сжатыми, а третья группа
– достигнутому, наконец, прекращению воздушной струи через сомкнутие губ.
Если так, то фонема слова кипяток есть действительно подходящая
звуковая материя для этимона: скакун,
прыгун, кипун. Но, конечно, в подобных объяснениях нельзя видеть ничего,
кроме лингвистической модели, накинутой хотя бы временно на зияющую при
современном состоянии лингвистики пропасть между звуком и смыслом.
Но слово кипяток – не голый корень: оно отлито в
грамматическую форму существительного. Этим отмечено, что кипяток – не признак,
не состояние и не действие какой-либо вещи или существа, а самая эта вещь,
самая субстанция, самое существо. Основной же признак этого существа
приписывается ему сказуемым, трояким в соответствии с троякостью сложения
самого слова.
Психологическим сказуемым к этому
слову будет кипящий, т.е. прыгающий,
а психологическою связкою, – вероятно, то мускульное чувство, которое мы
испытываем, вскидывая голову для наблюдения за прыгающим существом.
Психологическое суждение будет, следовательно, таково:
г-н Кипяток ® (вскидываю голову) ® кипящий
(подлежащее) (связка) (сказуемое)
Грамматическое сказуемое
первоначально то же, но связка уже иная.
Связка будет – «живет», «летит», и т.п., причем кипящий мыслится как акт кипятка-существа: кипение –
жизнедеятельность кипятка. Он
представляется тогда, говоря по-современному, душою кипящей жидкости, духом, обитающим в кипятке, скрывающимся в
чувственном образе. Это – как раз то самое, что говорил Фалес своим «все полно
богов, демонов и душ» и «магнит имеет душу»[23].
10.
«Кипяток живет кипящ» – это
не бессодержательное тождесловие, а целая поэмка: за музыкой звуков,
воспроизводящих переживание прыжка, за живописующими прыгание звуками, в них и
ими мыслится живое существо – попрыгунчик, поскакунчик, обитающее в котле и
пляшущее от огня, – существо, вся деятельность которого – непрестанное прыгание
сломя голову; он – вечный неугомонный карла, душа домашнего горшка. Слово есть
миф, зерно мифотворчества, развертывающееся во взрослый мифический организм по
мере вглядывания в это зерно. Единый признак, выражаемый морфемой, хранит в
себе возможности бесчисленных проявлений жизни. Осуществляя их, устойчивая и в
себе замкнутая внешняя форма слова (фонема + морфема) развертывается в
неустойчивую и не замкнутую семему, самую жизнь слова. Когда под кипятком
разумеется прыгунчик, то этому существу вовсе не отказывают в полноте жизненных
проявлений, они подразумеваются, семема же высказывается определенно, но каждый
раз по-новому, какое именно проявление жизнедеятельности усмотрено у этого
существа данный раз. Когда мы сейчас произносим слово кипяток, мы имеем в виду высокую температуру кипящей воды, и
«холодный кипяток» звучит как внутреннее противоречие. Мы не задумываемся, что
признак высокой температуры и даже признак жидкость – тут только один из
бесчисленных многих возможных признаков, развертывающих объективное содержание:
стремительно двигаться, подскакивать вверх, и тем обедняем свой язык. Но вот
несколько примеров, которыми наметятся некоторые напластования в семеме
занимающего нас слова.[24]
В рукописном Евангелии XIII в. текст Ио. 4,14 передается так: «источник воды, къlпяща в живот вечный»[25].
В современном переводе этому слову кљпяща
соответствует вялое текущей, но в
греческом тексте стоит Ўllomљnou, а Ўllomai означает прыгать, скакать, почему в
чине великого водосвятия чрезвычайно выразительно говорится об «источнике,
скачущем в жизнь вечную»[26]. О
стреле тот же глагол употребляется в смысле лететь, но ведь и стрела выпрыгивает из лука, ринувшись стремительно
вперед. Тот же глагол имеет затем значение делать
высокие прыжки, устремляться; в новозаветном языке в отношении воды – течь, но опять с оттенком с силою, прядать, это не спокойное и
длительно важное течение многоводной реки.
Подобно этому, в Минеи
1096 г. на Сентябрь, 144, говорится: «миро блговоньно къlпит намъ». В
рукописном поучении Григория Назианского XI в., 53,
говорится: «съсудомъ къlпћти»; здесь кљпњти передает слово phgЈzein от
phg» – источник, ключ, что значит течь.
Если вспомним, что от того же греческого слова происходит имя Пегаса – стремительно скачущего и
взлетающего окрыленного коня, души источника, то понятно, что и в слове кљпњти здесь содержится признак
стремительности. В том же поучении, 16, говорится: «кљпа˜ гноимъ въводиши безлњчьное»
– смысл аналогический – Златоструй, 13: «и тако не исцњленъ недоугь сей яко и
тмами бљлiем належащим, своемоу гною кљlпњти» – болезненные
выделения текут так обильно, что их не остановить никакими снадобьями.
В приведенных примерах
семема слова кипеть имеет в виду течение жидкости, понятие, ближайшее к
коренному значению слова.
![]()
![]()
Но вот примеры
напластований семемы уже последующих. В житии Феодоры 1039 г. читаем: «по
оученiи… многљих, яже кљпяхоуть Стмь Дхъмь оть оусть iего».
Здесь кљпњти значит изобиловать, изобильно источать
духовную силу; но тут еще можно усматривать некоторую аналогию с источением
жидкости. – Еще более далекое от корня наслоение семемы имеется в
словоупотреблении стихираря 1163 г.: «чюдесы ване кљпитъ Вљшеградъ
пречьстљнй», кљпит, т.е. кишит, полон, переполнен чудесами
город. Еще более далекое напластование из Миней Четьих, апрель 29: «обильнњ
кљпить» – в смысле обычно бывает под
рукою, бывает наготове, как перевод proke…tai, in promptu esse sollet. Подобное же
значение занимающего нас слова, когда в Библии говорится: «въ землю кљпящоу
медъ и млеко»[27]
– изобилующую медом и молоком,
по-гречески reousan. Еще дальше напластование нравственное, например, в
евангельском выражении «кљпњ вьзиде фарисей»[28],
т.е. надмеваясь, пыжась, переполняясь
самим собой. В древнерусском языке говорится также: кљпњти богатьством чьрвьми
– о больных членах, о рве с горячей расплавленной серой и т.д. и т.д. Во всех
приведенных примерах семема слова имеет в виду стремительность выделения, изобилие, поэтому на большое количество[29],
но нигде тут нет еще ни малейшего намека на высокую температуру, что названо
кипящим; правда, можно сказать про расплавленную серу или смолу, что она кипит, но этим указывается в древней
семеме не высокая температура расплавленного вещества, а состояние бурливости,
отсюда – подхождение к краям вместилища, и, далее, на большое количество
кипящей жидкости. Эти напластования семемы сохранили жизнь и в современном
русском языке. Так, говорится: «море кипит и пенится в бурю», «водопад кипит»;
затем, «народ кипит» например: «внизу народ на площади кипел» (Пушкин)[30].
«Муравейник кипит», т.е. кипит, густо
толпится, находится в непрестанном движении. Отсюда – значение, как
говорят, «переносное» (но неосновательное, ибо всякое значение слова – переносно,
символично, всякое слово – троп), «он кипит злобою, местью» – находится в
сильном душевном движении, «работа наша кипит» – идет бойко, скоро; «дело так и
кипит» – спорится; «к чему рук ни приложит, все у него кипит», т.е. он мастер
своего дела и т.д. В частности, волнение и бурление воды, вообще жидкости от
парообразования при достаточно высокой температуре тоже получает название
кипения: «вода кипьем кипит». А вместе с тем на семеме разбираемого слова
наслояется признак высокой температуры,
делающийся наиболее акцентированным: «окипятить что» – значит обварить:
«подкипятить» – подогреть; «точка кипения» – определенная температура. Вобрав в
себя новый признак, семема позволяет пренебрегать старыми и даже коренным
значением; так, говорится: «железо кипит», и это значит: мечет искры, накалено
добела, а «кипятить железо» – калить добела, для сварки.
Это – одно направление при
познавательном анализе кипящей воды. Другое же принимает в расчет
пенообразование при кипении: пена эта называется кипень или кипень; будучи белой, она характеризует собой уже не
тепловое состояние и не бурление, а соответственный цвет: «бела, как кипень» –
похвала красотке[31].
Далее, тот же анализ
отмечает образование твердой «накипи»,
почему в семему слова кипеть входит признаком всякое створожение, коагуляция, сбивание в комки; «ветошка прикипела к
ране»; «кровь скипелась» – свернулась, образовала твердые сгустки, «рана
скипелась»; «мука скипелась» – слежалась в комья; «щи укипели» – осталась одна
гуща, хотя в последнем примере накопление оттенков многосложно.
Но далее, душевное волнение
тоже сопровождается, во-первых, разгорячением,
а во-вторых – сильным движением,
ажитацией, не только психологическими, но и физическими. Отсюда «кипучий
человек» – значит, горячий, пылкий, предприимчивый; «кипучее воображение»,
«кипучий нрав», «кипучая кровь» – быстро возбуждающийся. «Кипениться» в
Тверской и Псковской губерниях, равно как и «кипятиться» на общерусском говоре,
– горячиться, задориться,
петушиться, хорохориться, «полно кипятить-то» – не спеши, или не торопи, не
понукай, дай срок. Указывают еще на тверское и псковское слово «кипятильничать»
в смысле прихвостничать, втираться в доверенность, но это значение едва ли
можно признать достоверным.
Психологический слой в семеме слова кипяток использован и литературным языком; так и у юного Пушкина:
Нетерпеливый конь кипит
И снег копытом мощным роет[32],
а у Раича – наполовину каламбурное:
Вскипел Бульон,
течет во Храм[33].
11.
Итак, если оставить в
стороне боковые ветви, то генеалогия семемы кипяток такова: скакун, прыгун кипяток получает значение кипуна,
т.е. бьющего вверх ключа; затем – всякого изобильного отделения; затем –
бурления воды от парообразования; затем – воды горячей, вара; наконец –
человека, находящегося в движении и потому внутренне неспокойного,
торопящегося, вспыльчивого, горячего: «что за кипяток», «не человек – кипяток».
Родословие этой семемы
длинно, но нельзя думать, будто образование семемы настоящей наличностью ее
слоев завершено. Напротив, медлительный вначале и, при ясном сознании этимона,
боязливо держащийся в ближайших окрестностях корня этот процесс роста семемы
идет ускоренно, когда коренное значение, обволокнутое рядом слоев, уже не
чувствуется как господственно влиятельное или даже вовсе не понимается без
лингвистических изысканий. Тут семема приобретает чрезвычайную подвижность, и
можно быть уверенным, распространение ее пойдет далее и далее, наращивая на
изначальной симфонии звуков, на фоническом ядре слова все новые и новые
семантические концентры. В сознании физика, например, семема слова кипяток
включает в свой состав совокупность многоразличных фактов и теорий, касающихся
до кипения жидкостей; что температура кипения зависит от упругости окружающей
атмосферы, что для кипения необходимо присутствие в жидкости газовых пузырьков,
что температура кипения зависит от посуды, в которую налита жидкость, что
существует критическая температура – абсолютного кипения и пр. и пр. – все это
тоже вошло в семему кипяток, но один
раз выдвигается один слой ее, а другой раз – другой. Каждый из нас придает
пластичной семеме слова свое,
сообразное потребности данного случая значение; у каждого коренное значение
связывается с неуловимыми, но весьма существенными духовными обертонами,
сознание каждого слова пускает свои
воздушные корни. Говоря слово кипяток,
мы обращаемся с целым снопом понятий
и образов; но и разнообразные, они вяжутся в одно целое. Суждением
подчеркивается тот или другой слой семемы: сказуемое дает слову новую свежесть
и новую значительность. Оставаясь старым, оно приобретает новую функцию, и нам
радостно узнавать в новом старое и в старом открывать новое; на языке дельцов
это можно было бы назвать удовлетворенным чувством экономии.
12.
Итак, слово и неподвижно,
устойчиво и, наоборот, неопределенно, безгранично, зыблемо, хотя, и зыблясь,
оно не оттягивает места своего ядра. Невидимые нити могут протягиваться между
словами там, где при грубом учете их значений не может быть никакой связи; от
слова тянутся нежные, но цепкие щупальцы, схватывающиеся с таковыми же других
слов, и тогда реальности, недоступные школьной речи, оказываются захваченными
этою крепкою сетью из почти незримых нитей.
[П.А.Флоренский] | [Библиотека "Вехи"]
© 2000, Библиотека
"Вехи"