[П.А.Флоренский] | [Библиотека "Вехи"]
7. ИМЕСЛАВИЕ КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПРЕДПОСЫЛКА
I.
Слово – человеческая
энергия, и рода человеческого, и отдельного лица, – открывающаяся чрез лицо
энергия человечества. Но предметом
слова или его содержанием в точном
значении нельзя признавать самую эту энергию: слово, как деятельность познания,
выводит ум за пределы субъективности и соприкасает с миром, что по ту сторону
наших собственных психических состояний. Будучи психофизиологическим, слово не
дымом разлетается в мире, но сводит нас лицом к лицу с реальностью и,
следовательно, прикасаясь к своему предмету, оно столь же может быть относимо к
его, предмета, откровению в нас, как и нас – ему и пред ним. Мы[1]
подошли тут к убеждению, неотъемлемому от общечеловеческой мысли: о связи
сущности и ее энергии. Это учение подразумевается всякой жизненной мыслью, во
все времена и у всех народов оно лежало в основе миропонимания; философски же
было выражено расчлененно античным идеализмом, затем неоплатонизмом, далее
предносилось средневековому реализму, углубленно было высказано Восточною
Церковью в XIV веке, по связи с богословскими спорами о Фаворском
Свете; еще далее – оно питало Гете, намечалось, хотя и неясно, у Маха и
наконец, в наши дни, прорвалось как жгучий протест против философского и
богословского иллюзионизма и субъективизма в афонском споре об Имени Божием.
Идеологическую родословную учения о сущности и энергиях можно было бы
чрезвычайно развить, углубляясь корнями в далекое прошлое, прослеживая
промежуточные узлы и распространяя по боковым ветвям вширь, – и тогда трудно
сказать, какие построения мысли не пришлось бы обсуждать под таким углом.
Всякое событие мысли или вырастало
на общечеловеческой предпосылке (по последнему яркому спору о ней будем
называть «имеславием»), или же
боролось и опровергало основоначало этого имеславия. Но сейчас нет надобности
углубляться в родословную имеславия, тем более что некоторые моменты этой
последней будут разъяснены в других отделах настоящего труда. Необходимо лишь
заметить: значение имеславческого уклона мысли вовсе не ограничивается тем или
другим отдельным вопросом философии
или богословия, но захватывает всё
мировоззрение, даже все
мировоззрения, и, в самом основном своем отношении к миру, каждому необходимо
определиться или имеславчески или напротив. Специальное наименование этой
предпосылки избирается здесь пишущим в связи с его биографическими интересами,
частью же – по наибольшей напряженности борьбы, открывшейся в богословском, а
не в каком-либо другом споре, – что впрочем и естественно. Но нет надобности
быть именно богословом, нет даже надобности быть философом, чтобы понять общую
значимость обсуждаемого учения. То, что называется здравым смыслом и что есть
на самом деле всечеловеческое сознание,
– это должно побудить каждого мысленно взвесить основные начала имеславия. В
самом деле: вот я живу в мире, в обширном мире и с миром, – с людьми, с
животными, с растениями, со стихиями и светилами. Как же мне не задать себе
вопроса, в самом ли деле это так, или это есть тот или другой вид иллюзии,
мечтания, хотя бы и необходимого и «прочно обоснованного» – по Лейбницу,
«объективного» – по Канту? Общечеловеческое сознание утверждает мне, что кажется то, что есть на самом деле;
философия же и наука, в лице большинства своих представителей, притязают
изобличить это «кажется» в пустоте и обманчивости: кажется то, чего нет. Но мне
вовсе не безразлично, буду ли я думать и ощущать в единстве с человеческим
родом, или же склонюсь к отщепенству, т.е. к общечеловеческой ереси, к мысли обособленных кругов,
кружков и единиц. Мне далеко не безразлично, дышать ли полной грудью среди
лесов и полей, или задыхаться в пыльной комнате; и чрез глубинную установку
моего сознания жизнь моя неминуемо определится в самом важном для меня весьма
различно. То, что мы называем имеславием, всецело связывает свою судьбу и
духовную ответственность за жизнь с вселенским сознанием человечества;
имеславие верит в исконно и неотъемлемо присущую человечеству истину, ибо
только истина дает человеку его достоинство. Образованный или невежественный,
культурный или дикарь, новый или древний, человек всегда и везде был человеком:
это значит, в средоточии своего духовного существа он всегда имел живое
ощущение истины, и в этом смысле всегда все были равны как люди. Задача
имеславия, как некоторого интеллектуального творчества, – расчлененно высказать
исконное ощущение человечества, без
которого человек не есть человек, – и, следовательно, вскрыть онтологические,
гносеологические и психофизиологические предпосылки этого всечеловеческого
ощущения и самоощущения. Имеславие
всегда хотело и хочет подойти к ним исследовательски, устанавливая то, что
откроется при анализе. Оно заранее учитывает возможность антиномии и заранее
признает, что далеко не все будет объяснено им и сведено в единство. Но не в
объяснении и не в объединении видит оно свою существенную задачу, а в
закреплении за сознанием тех позиций, уступая которые надо было бы порвать
вселенское самосознание человечества – и впасть в ересь. Напротив, обратный
уклон мысли (назовем его, опять-таки отправляясь от афонского спора, имеборчеством), – он с самого начала не признает исконной принадлежности
истины человеческому роду, с самого начала он не видит в человеке его
достоинства, и потому, следовательно, ему ничего не остается, как питать
убеждение, что хотя истины нет у человечества в целом, но она может быть
построена или сочинена отдельными группами или отдельными исследователями[2].
Но так как невозможно предпринимать построения, не имея под собой никакой почвы, то, коль скоро
общечеловеческая почва заподозривается, даже отвергается, – имеборческому исследователю
по необходимости приходится закрепить за собою наличное сознание своей группы
или свое личное: эта-то подмена общечеловеческого, т.е. существенно
человеческого, частно человеческим, т.е. случайным, и есть суть ереси. А далее, еретическому сознанию
имеборчества ( – еретическому, хотя бы оно сделало своей декларацией катехизис
– ), далее – ему необходимо вскрыть предпосылки свои собственные, и среди
таковых неизбежно будут уловлены исследовательскими сетями внутренние мотивы
своего отщепления от человечества. А так как именно эти мотивы образуют то особенное, положительно особенное, чем
данная группа отлична от всего человечества, и так как, следовательно, именно в
них должно искать духовные силы, воодушевляющие данную группу, то это они
именно неминуемо станут центрами кристаллизации всей системы мысли: все должно
быть объяснено из них, все должно быть приведено к единству вокруг них, а то,
что не объяснится или не объединится, самым фактом своей несовместности с
предпосылками ереси – будет отвергнуто, извергнуто из системы, окончательно
изгнано из сознания.
Итак, то коренное
самоопределение, о котором идет здесь речь, изводит из себя и деятельность
очистки сознания: или общечеловеческого от группового, кружковского,
уединенного, или, напротив, – этого последнего – от оставшихся в нем элементов
общечеловечности.
II.
Основное самочувствие
человечества – «я живу в мире и с миром» – подразумевает существование,
подлинное существование в качестве реальности, как меня, самого человечества, так и того, что вне меня, что существует помимо или, точнее сказать, независимо от
сознания человечества. Но, наряду с этой двойственностью бытия, сознание
человечества подразумевает и некоторое объединение или преодоление этой
двойственности, притом тоже подлинное. Подлинно объединены познающий и
познаваемое; но столь же подлинно соблюдается в этом объединении и их
самостоятельность. В акте познания нельзя рассечь субъект познания от его
объекта: познание есть и тот и другой сразу; точнее сказать, оно есть именно
познание субъектом объекта, – такое единство, в котором только отвлеченно может
быть различаем тот и другой, но вместе с тем, этим объединением объект не
уничтожается в субъекте, как последний в свой черед – не растворяется во
внешнем ему предмете познания. И соединяясь, они не поглощают один другого,
хотя, храня самостоятельность, не остаются и разделенными. Богословская формула
«неслиянно и нераздельно»[3] в
полной мере применима к познавательному взаимоотношению субъекта и объекта, как
понималось и понимается это взаимоотношение человечеством. Можно сказать: любой
человек, если ему не внушено противоположных мыслей в школьной философии,
разумеет дело – дело познания – именно так.
Да, истиной самоочевидной, едва ли не самоочевиднейшей из всех, представляется
просто человеку, члену человеческого рода, что объект познания не есть его понятие или его
представление, как сам он, человек, не
есть та или иная комбинация, то или другое произвольное реальностей внешнего
мира, но что познание – в самом деле его познание и в самом деле им и в нем
открывает себя человеку внешний мир или вообще реальность, не исчерпываемая
актом познания.
Если таково убеждение, от
которого не отказывается человечество, да и не может отказаться, не теряя
духовного равновесия, с утерею всех импульсов культурной деятельности, то
неотъемлемо от общечеловеческого сознания и признание некоторой двойственности
в самом субъекте и в самом объекте. У бытия есть сторона внутренняя, которою оно обращено к себе самому, в своей
не-слиянности со всем, что не оно, а есть сторона внешняя, направленная к другому бытию. Две стороны, но они не присоединены одна к другой, а суть в единстве первоначальном; они –
одно и то же бытие, хотя и по различным направлениям. Одна сторона служит
самоутверждению бытия, другая – его обнаружению, явлению, раскрытию или еще
каким угодно называть именем эту жизнь, связующую бытие с другим бытием. По
терминологии древней, эти две стороны бытия называются сущностью или существом,
oЩs…a, и деятельностью или энергией, ™nљrgeia. Усвоенное неоплатонизмом,
святоотеческой письменностью, позднесредневековым богословием Восточной Церкви
и в значительной мере усвоенное современной наукой (имею в виду преимущественно
термин энергия – в физическом и
натурфилософском словоупотреблении), эта терминология, по-видимому, наиболее
соответствует потребностям философской мысли. Но она охотно принимается и
житейской речью. Когда средневековые мыслители говорят, что всякое бытие имеет
свою энергию и что только у небытия нет ее[4], эта
онтологическая аксиома вполне одобряется обычным смыслом: ведь это значит, что
все подлинно существующее имеет в себе жизнь и проявляет эту жизнь, –
свидетельствует о своем существовании – проявлением своей жизни, и притом
свидетельствует не другим только, но и себе самому. Это проявление жизни и есть
энергия существа.
Но если так, то тогда бытия
могут, оставаясь по сущности своей неслиянными, не сводимыми друг на друга, не
растворимыми друг в друге, – могут быть и подлинно объединены между собою
своими энергиями: тогда это объединение может быть мыслимо не как приложение
деятельности к деятельности, не как механический толчок одним бытием другого, а
в виде взаимопрорастания энергий, со-действия их, sunљrgeia, в котором нет уже
врозь ни той, ни другой энергии, а есть нечто новое. Взаимоотношение бытий мыслится тогда не механически, а
органически, или, еще глубже, онтологически: это познавательный брак, от
которого рождается третье, ребенок, и ребенок этот, причастный бытию и
материнскому и отцовскому, есть, однако, большее, нежели сколько имели
бытийственной энергии самораскрытия оба родителя – в сумме. Познание есть этот
ребенок, плод общения познающего духа и познаваемого мира; соединяя дух и мир в
подлинном, не кажущемся единстве, этот плод, однако, не ведет к поглощению ни
одного, ни обоих вместе родителей, и они, объединенные и взаимно обогащенные,
все же продолжают свое существование как центры бытия[5].
Таким образом, связь бытий, их взаимоотношение и
взаимооткровение, сама есть нечто реальное и, не отрываясь от центров, ею
связуемых, она и не сводится к ним. Она есть синэнергия, со-деятельность бытий,
и непременно раскрывает собою бытие – и то и другое. Она не стоит в
тождественном равенстве ни с одним из бытий, будучи новым в отношении каждого из них; но она есть каждая из них, поскольку соответственное бытие ею открывается,
а вне и помимо своей энергии, притом энергии усвоенной, бытие остается не
открытым, не-явленным и, следовательно, непознанным. Усвоена же некоторая
энергия бытия может быть лишь энергией же бытия усваивающего. Если
энергетическому потоку нет среды усваивающей в виде встречного потока, то это
значит, воспринимающее бытие не проявляет себя как воспринимающее, не проявляет
себя деятельностью восприятия. Тогда оно – ничто, в отношении бытия
воспринимаемого; тогда его все равно что нет; тогда энергетический поток идет
сквозь него и мимо него, его не задевая, его не замечая, и сам им не
воспринятый и не замеченный.
Так, электромагнитные волны
минуют ненастроенный на них проводящий контур, и электромагнитного взаимодействия
связи с некоторой другой колеблющейся цепью не осуществляется; чтобы связь
установилась, контур должен проявить деятельность отклика и поглощения падающей
энергии. И тогда эта деятельность уже не будет только его деятельностью, потому что колебаний резонанса не отделить от
колебаний, возбуждающих резонанс: резонанс есть уже не деятельность той или
другой цепи, а со-деятельность цепей. В резонаторе колеблется не его только энергия, и не энергия только
вибратора, а синэргия того и
другого, и наличием этой последней две цепи, хотя и разделенные
пространственно, делаются одною.
Вибратор открывается бытию резонатора чрез резонансовые колебания, и,
усматривая наличие последних, мы вправе видеть сквозь нее реальность самого
вибратора. Да и не «вправе» только, а вынуждаемся,
и, в порядке электромагнитного существования, мы и не знаем, и не можем знать
бытия вибратора иначе, как посредством осуществленной резонансом связи между
ними. И поэтому мы вправе и мы обязаны, поскольку наше восприятие ограничено
было бы электромагнитными волнами определенной длины, оценивать явления
резонанса в нашем воспринимающем аппарате как самое вибрирующую цепь, и, имея
дело с резонансом, говорить не о
нем, поскольку он есть лишь средство, а о цепи, которая есть истинный предмет и
цель электромагнитного познания. Таким образом, резонанс есть синэргия, несущая
с собою бытия, его порождающие. Он – больше
себя самого и, будучи резонансом, есть вместе с тем его причина,
причиняющая ему бытие. А поскольку более ценным и более важным мы признаем
именно последнее, поскольку на первом месте правильнее поставить именно бытие,
открываемое своей энергией, а на втором – энергию открывающую, но и свою
ценность и свое существование получающую от первого. Так подходим мы вплотную к
понятию символа.
IV.
Бытие,
которое больше самого себя, – таково основное определение символа. Символ – это нечто являющее собою то, что не есть он сам,
большее его, и однако существенно чрез него объявляющееся. Раскрываем это
формальное определение: символ есть
такая сущность, энергия которой, сращенная или, точнее, срастворенная с
энергией некоторой другой, более ценной в данном отношении сущности, несет
таким образом в себе эту последнюю. Но, неся сущность в занимающем нас
отношении более ценную, символ, хотя и имеет свое собственное наименование,
однако, с правом может именоваться также наименованием той, высшей ценности, а в занимающем отношении и должен именоваться этим последним[6].
Чтобы сузить, и вместе
упростить поставленный вопрос, из различных связей бытия будем говорить лишь о
познавательных: причинные и прочие связи, поскольку они рассматриваются обычно извне, невольно приобретают в нашем
понимании характер внешнего же сцепления или толчка, наподобие механической
причинности, Это перетолкование их, конечно, неосновательно; но при
господствующем миропонимании оно психологически естественно. Поэтому полезно
заняться связями, к тому же нас преимущественно здесь занимающими, где заведомо
недопустимы ни в какой мере механические образы и где характер отношений между
бытиями существенно внутренний. Речь идет об отношениях познавательных. Таковым существенно принадлежит духовность, т.е.
не-механичность.
Но отсюда, впрочем, ничуть
не следует ложный вывод, якобы тем самым эти познавательные отношения не
подлежат онтологическим категориям. Так, трансцендентальность форм разума
отнюдь не отводит вопрос об онтологической расценке самого разума и его
трансцендентальных форм: чем бы они ни были по своей познавательной функции
созерцания, категории и прочие априорные элементы разума, тем или другим
решением вопроса о них, в порядке гносеологическом, ничуть не отменяется, даже
напротив, вызывается иной вопрос –
об их собственной природе и бытии их самих по себе, вне отношения к познанию,
вне их участия в структуре знания. Это – в отношении форм разума. Но так и
вообще: акты познания, будучи значимыми в познавании, не суть однако сами по
себе онтологическое ничто, они – реальность, и в этом смысле о них, как о
воплощенных в словесном теле, можно говорить, да и отчасти уже было здесь говорено
о магической природе познания, о магичности слова. Однако сейчас речь идет
именно не о познании самом по себе,
не о слове в порядке онтологическом и космическом, а о познании со стороны его
основной функции.
Причинная связь есть
откровение в бытии – другого бытия. Но мы-то, со стороны, наблюдаем не самое откровение, а некоторое изменение в бытии; и потому, до бытия,
открывшегося чрез причинное воздействие, доходим не непосредственно, в потоке
его энергии, каковой хотя и в пространстве открывается, но сам не есть нечто
отдаленное от своего центра – источника, а – косвенно, путем умозаключений,
т.е. пытаясь с своей стороны установить некоторую, теперь уже познавательную, свою связь с источником. При этом,
может быть, мы соединяемся и не с
надлежащим центром. Таково причинное
отношение; тут я воспринимаю не бытие, а отношение
между собою двух бытий.
Напротив, при познавательной связи не внешнее мне
бытие соотносится с другим бытием, но я
сам своей энергией воспринимаю, непосредственно от познаваемого бытия, его
откровение мне и во мне. Как сказано, срастворяясь с энергией моего восприятия,
это явление сущности полагает основу для всего дальнейшего процесса познания. И
вследствие того, по содержательности своей познавательной, дальнейший процесс
познания не больше наличной источной его синэнергии: он не приобретает нового,
но стремится закрепить за познающим синэргетическое откровение реальности, и
для этого делает по возможности всегда и самопроизвольно возобновимым в
сознании то, что открылось единожды и нежданно, – но – так, чтобы повторные
откровения реальности возможно менее теряли от полновесности откровения
первоначального. Этим органом самопроизвольного установления связи между
познающим и познаваемым служит слово,
а в частности – имя, или некоторый
эквивалент его – употребляемый как
имя: метонимия.
V.[7]
В расширительном смысле, под
словом надо разуметь всякое
самодеятельное проявление нашего существа вовне, поскольку целью такого
проявления мы считаем не внешне учитываемые
энергии, физические, оккультные и прочие, а смысл, их посредством входящий в мир транссубъективный. Впрочем, не
здесь впервой так расширяется понятие о слове. И в лингвистике различают разные
виды языков, язык жестов, язык знаков, язык музыкальных сигнализаций и т.п. и
т.п., причем цель всех рассматриваемых там деятельностей есть выражение смысла; по единству же этой цели,
деятельности, по-видимому весьма различные, объединяются все-таки, – под одним
общим наименованием языка.
Но было бы ошибкой
усматривать единство их только в цели
и рыть пропасти между различными средствами,
эту цель осуществляющими. Разумный организм, как целостное, многообразно
внутренне связанное целое, на энергию познаваемой реальности откликается весь целиком, – не одною какой-либо
своей функцией. Ведь этот резонанс его не гнездится на периферии, но есть
энергия именно существа познающего;
и следовательно, возбужденная им в себе ответная волна сотрясает самый корень
организма, из которой лишь значительно ближе к периферии ветвятся отдельные
деятельности. Хотя и направляемая активностью к известной функции организма, познавательная синэргия
распространяется однако на все
функции, но в разных степенях; она стекает преимущественно одним протоком, но
при этом наполняется, правда, в разной мере, вся канализирующая система. Слово
подается всем организмом, хотя и с
преимущественной акцентацией на той или другой стороне самопроявления субъекта
познания; в каждом роде языка зачаточно обнаруживаются и все прочие роды. Так,
говоря, мы и жестикулируем, т.е. пользуемся языком движений тела, и меняем
выражение лица – язык мимики, – и склонны чертить идеограммы, если не
карандашом на бумаге или мелом на доске, то хотя бы пальцем в воздухе – язык;
знаков, – и вводить в речь момент вокальный – язык музыкальных сигналов, – и
посылаем оккультные импульсы – симпатическое сообщение, телепатия, – и т.д.
Даже поверхностный психофизический анализ наших реакций обнаруживает наличность
этих и многих других непроизвольных деятельностей, сопровождающих одну из них,
любую, производимую сознательно. Черчение знаков непроизвольно сопровождается
беззвучной, а иногда, при внимании, сильно сосредоточенном на знаках, и
звучащей артикуляцией, и т.д. Иначе говоря, есть собственно только один язык – язык активного самопроявления целостным организмом, и единый только род слов – артикулируемых
всем телом. Но, подобно тому как и в
словесной речи музыкальный момент, или мимический, или жестикуляционный, или
знаконачертательный, или один из прочих, может быть выдвинут с большим или
меньшим ударением, так и в языке, понимая
это слово расширительно, та или другая окраска его, т.е. преимущественная
приуроченность к определенной деятельности, и равно и обертоны, –
сопровождающие ее другие деятельности, могут быть подчеркнуты по-разному. Но,
повторим, эта разница в подчеркиваниях ничуть не мешает быть различным родам
языков в основе одним языком, просто
языком, вообще языком целостного организма: всякое слово выговаривается всеми
нашими органами, всем телом, хотя и господствует в нем деятельность того или
другого.
VI.
Но среди всех деятельностей есть одна, наиболее точно и с наименьшей
затратой усилий подчиняющаяся нашей сознательной воле; есть орган, наиболее
приспособленный к сознательной передаче желанного смысла и, преимущественно
пред всеми прочими частями тела, всегда
готовый служить свою службу. Эта деятельность – язык членораздельного звукового
слова, этот орган – голосовой. Может быть, в частных отношениях другие
деятельности и органы имеют свои
преимущества. Так, для выражения известных оттенков, может быть более силен
язык жестов; давно указано –
«Там
слов не тратить по-пустому,
Где
нужно власть употребить»[8], –
и пение порой глубже дает нам почувствовать лирику души, нежели самые
отчетливые монологи. Наконец, в некоторых случаях, та или другая деятельность
может оказаться кратчайшим, а потому легчайшим путем к разряду внутренней
энергии: как, например, язык знаков, по-видимому, наиболее действителен при
операциях логических и почти незаменим в математике. Но в языковом оркестре
многих функций организма все они имеют свою специальность, а потому и применимы
ограниченно, тогда как язык членораздельного слова есть инструмент
универсальный – рояль среди прочих инструментов духа – наиболее разносторонний
и наиболее способный служить собою потребностям различнейшим.
Частных причин к тому, может
быть, пока еще разъяснить не удается. Но, по-видимому, голосовой орган особенно
многообразно связан с центрами, в координированной деятельности которых
раскрывается синэргетический процесс духовного отношения нашего к реальности.
Тут правильно держать в виду гомотипический параллелизм дыхательно-голосовой
системы и системы мочеполовой, и, определеннее, гомотипичность органов слова и
органов пола, а средоточность их в организме и существенная связанность со
всеми функциями хорошо известна, так что с собственными изменениями нечто
аналогичное подразумевается и в отношении голосовой системы. Но не входя в
подробности анатомо-физиологические, мы должны отметить себе этот факт, что лишь
словом, производимым голосовым
органом, разрешается познавательный процесс, объективируется то, что было до
слова еще субъективным и даже нам самим не являлось как познанная истина.
Напротив, слово произнесенное подводит итог
внутреннему томлению по реальности и ставит пред нами познавательный порыв (Sehnusucht) как достигнутую цель и закрепленную за сознанием ценность. Не
особенно важно: совсем ли беззвучно, или тихо, или даже громко произнесено это
слово, хотя, – несомненно, – и громкость, громогласность возвещаемой истины –
дает ее объективности какой-то устой, какую-то окончательную надежность.
Образование синэргетического
акта познания нарастает, может быть, нарастает очень длительно, томит, как
нечто начатое, но не осуществленное. Этот процесс не есть еще, однако,
сознанное прикосновение к познаваемой реальности, не есть достигнутое познание,
но – лишь подготовка к нему. Две энергии, реальности и познающего, близки друг
к другу, может быть, размешаны друг в друге; но эта флюктуирующая смесь еще не
образует единства, и необъединенной борьбой своих стихий вызывает во всем вашем
организме томительное ожидание равновесия. Напряжение усиливается, и
противоположность познающего и познаваемого сознается все острее. Это – как
пред грозою. Слово есть та молния, которая раздирает небо от востока до запада,
являя воплощенный смысл: в слове уравновешиваются и приходят к единству
накопившиеся энергии. Слово – молния. Оно не есть уже ни та или другая энергия
порознь, ни обе вместе, а – новое, двуединое энергетическое явление, новая
реальность в мире Оно – проток между разделенным до тех пор. Геометрия учит,
что каково бы ни было расстояние между двумя точками в пространстве по
кратчайшей между ними, – кроме того, всегда может быть осуществлен путь, по
которому расстояние их равно нулю.
Линия этого пути есть так называемая изотропа.
Устанавливая сообщение между точками изотропическое, мы непосредственно
соприкасаем друг с другом любые две точки. Так слово-произнесение можно
сравнить с таким прикасанием познающего и познаваемого – по изотропе: хотя и
оставаясь разделенными пространственно, они оказываются совмещенными друг с
другом. Слово есть онтологическая изотропа.
Как новое событие в мире,
сводящее разделенное, слово не есть то или другое из сводимого: оно – слово. Но
нельзя сказать: «оно само по себе». Без того или без другого из соединяемых им
полюсов оно вовсе не есть. Будучи новым
явлением, слово всецело держится на точках своего приложения: так, мост,
соединяющий два берега, не есть тот или другой из них, но уничтожается в
качестве моста, лишь только отделен от одной из своих опор. А тогда понятно и
утверждение обратное, – что слово есть
познающий субъект и познаваемый объект, – сплетающимися энергиями которых оно
держится. Путнику, стоящему на одном берегу, разве мост не протягивается другим
берегом, распространившимся до него самого. Это – отрог ему другого берега,
которым недостижимое – само достигло его и встречает его у своего порога. А
если бы путник был уже на другом берегу, то мост представительствовал бы пред
ним за берег противоположный. Так и слово, этот мост между Я и не-Я.
Рассматриваемое с берега
не-Я, – т.е. из космологии, оно есть деятельность субъекта, а в ней – сам
субъект, вторгающийся в мир. Слыша слово, мы говорим, и должны говорить, раз
только не имеем особых причин мысленно сосредоточиться на средствах самопроявления субъекта, – мы должны говорить: «Вот он –
познающий разум, вот оно – разумное лицо». И, сказав себе так, мы чрез слово
станем ввинчиваться вниманием в энергию сущности этого лица. Так именно познаем
мы человека, вообще разумное существо, по его словам, ибо, мы уверены, – слова
его непосредственно дают нам его самодеятельность, а этою последнею
раскрывается сокровенная его сущность. И мы уверены: слово есть сам говорящий.
Напротив, рассматривая слово
с берега Я, – свое собственное слово, под углом психо- и гносеологии, мы можем
и должны говорить о нем: «Вот она – познаваемая реальность, вот он –
познаваемый объект», – и тут, конечно, постольку, поскольку у нас нет
специального задания остановиться в упор на средствах выразительности, подобно тому, как когда мы смотрим на
картину эстетически, не задаваясь оценкой добротности холста или крепости
подрамника. А когда мы установили себе, что слово – это самый объект,
познаваемая реальность, то тогда чрез слово мы проникаем в энергию ее сущности,
с глубочайшей убежденностью постигнуть там самую сущность, энергией своею
раскрываемую. Слово есть самая
реальность, словом высказываемая, – не то чтобы дублет ее, рядом с ней
поставленная копия, а именно она, самая реальность в своей подлинности, в своем
нумерическом самотождестве. Словом и чрез слово познаем мы реальность, и слово
есть самая реальность[9].
Таким образом, в высочайшей степени слово подлежит основной формуле символа:
оно – больше себя самого. И притом, больше – двояко: будучи самим собою,
оно вместе с тем есть и субъект познания и объект познания. Если теперь субъект
познания (поскольку субъект познания, мы сами, всегда при нас) рассматривать
как опорную сущность символа-слова, то тогда все установленное здесь
относительно слова в точности подойдет под разъясненную выше онтологическую
формулу символа как сущности,
несущей срощенную с ее энергией энергию иной
сущности, каковою энергией дается и самая сущность, та, вторая.
VII.
До сих пор речь шла вообще о слове. Но большая духовная
концентрация, соответствующая бытийственному сгустку, центру пересекающихся в
нем многообразий, носителю признаков и состояний, на школьном языке –
субстанция, требует и слова большей сгущенности, тоже опорного пункта словесных
актов, тоже перекрестия рядов словесных деятельностей. Такой словесный центр
есть имя.
Общим признаком всех родов
существительного служит, по Потебне, то, что «оно есть название грамматической субстанции или вещи»,
как комплекса или совокупности всех признаков существительного.[10]
Связь познающего с
познаваемою субстанцией требует и от слова особенной уплотненности: таково имя. А среди субстанций та, которая
сознается исключительно важным средоточием бытийственных определений и
жизненных отношений, дающих ей индивидуальность, в мире неповторимую, лицо, –
такая субстанция требует себе и имени единственного – имени личного.[11]
Обычно наше познание
реальности имеет в виду не самую
реальность, но пользуется этой реальностью ради некоторой другой цели. При
таком, – тактическом или прагматическом, – отношении к предмету познания сам он
не представляется нам ни ценным, ни привлекательным: нас занимают, собственно,
лишь те или иные свойства его, те или иные его связи с другими сущностями;
самый же предмет наличен в нашем сознании и речи постольку, поскольку не
устранить его – без устранения нужных нам его сторон. Естественно, что коль
скоро самый предмет только терпится, нам нет побудительных мотивов умственно
прилежать ко всем его энергиям, ко
всем его свойствам и связям: ведь полнотою этих последних и проявляется самая
реальность. Напротив, имея в виду лишь кое-что
из этого проявления, но не как
проявление сущности, а как некоторый процесс – материал для некоторых
посторонних ему применений, – мы стараемся
не заметить всего прочего. Все прочее мы активно вытесняем из сферы сознания.
Тогда возникает в нас акцентуированное сознание сторон нам нужных, с бледным
придатком от самого предмета, у которого заслонены его энергии. Эту
деятельность познания называют абстракцией,
а получившееся в результате имя –
именем нарицательным, или отвлеченным ( – применяю опять термин в
несколько отличном от школьно-грамматического словоупотребления). Имени
нарицательному соответствует категория субстанции, но субстанции не
метафизической, а грамматической, – как справедливо было отмечено Потебнею;
само собою, нельзя смешивать грамматическую
субстанцию с метафизической: в то время как метафизическая субстанция «есть вещь сама по себе, отделенная от всех
своих признаков» (т.е. сущность.
– П.Ф.), грамматическая, напротив,
«есть совокупность признаков
совершенно однородных с тем (признаком. – П.Ф.),
который может быть этимологически дан в существительном»[12].
Это значит, предмет, обозначенный существительным, мы мыслим наподобие
метафизической субстанции, под покровом категории субстанциальности, хотя и не
думаем о нем в упор как о субстанции: он понимается как энергия сущности, а не как сущность
сама по себе. Но сущность этой энергии мыслится в имени нарицательном боковым
мышлением (по аналогии с боковым зрением). Научное мышление все построено на
именах нарицательных: оно занято отдельными родами связей и свойств, но
равнодушно к самой реальности, мало того – видит в последней помеху своему
схемо-строительству. Научное мышление «ищет своего»[13].
Так ведет себя познающий,
когда познаваемое – не любовь его, а польза.
Но, как бы часто ни бывало
так в жизни, отсюда не следует невозможность любви. Есть и любовь к познаваемой
реальности. Есть симпатическое познание, ласковое приникание к познаваемому,
когда само оно влечет к себе
познающего. Заветною звездою оно направляет взор исследователя, и вдоль каждого
луча устремляется он проникнуть в познаваемое. Вся полнота самораскрытия познаваемой сущности питает познающий
дух, и он силится воспринять ее в индивидуальной форме, где все
взаимонеобходимо целостным кругом, где одно поясняет другое. Это конкретное
познание не есть беспредельное и бесцельное накопление отдельных признаков, в
пучине которых теряется разум; напротив, это есть стремление противопоставить
раздробительности познания отвлеченного – единство, самозамкнутость и
целостность познаваемого объекта как некоторого существа – беспредельной линии противопоставить сферу, признакам –
лицо. Тогда возникает имя личное.
Личное имя в сравнении с
нарицательным может быть охарактеризовано зараз: и как отличное от него лишь
количественно, и как ему принципиально противоположное. Лишь количественно – и
то и другое имя различны потому, что всякое личное имя по своей лингвистической
материи есть то же имя нарицательное, хотя и приуроченное к определенному лицу.
Напишем любое собственное имя с малой буквы – и оно станет нарицательным, если
не на нашем языке, то на чьем-нибудь чужом. Лингвистически Вера есть вера, а Роза – роза, как Исаак или, точнее, Ицгак есть ицгак, смех, или Петр – петр, камень.
Решительно всякое личное имя приводится к имени нарицательному или во всяком
случае принципиально может быть приведено. И так должно сказать не только об
именах отдельных лиц, но и об именах родовых (nomen familias – фамилии), групповых, племенных, – именах народов, стран, городов,
животных, географических наименований и т.д. Всякое собственное имя, повторяем,
может быть рассматриваемо как имя нарицательное, но написанное с большой буквы;
хотя и наоборот, в пределах истории, даже на наших глазах, постоянно возникают
имена нарицательные из имен собственных (макинтош, сандвич, цеппелин и пр.). В
лингвистике остается нерешенным, считать ли имена собственные или имена
нарицательные первоначальными, и различные школы держатся воззрений
противоположных. Остается – и останется: потому что это есть одна из
многочисленных лингвистических антиномий, которые разрешить – значило бы
разрушить язык как таковой. И собственные, и нарицательные имена равно
необходимы речи, как необходимы при ходьбе обе
ноги, и было бы уничтожением органической формы доказывать генетическое
первенство правой ноги над левой или наоборот. Принципиальная неустранимость
антиномии: имена нарицательные – имена собственные – лежит в том, что по
внешнему своему составу и те и другие суть одно и то же, но с перестановкой
ударения в заинтересованности; а между тем и та и другая постановки этого
ударения необходимы для мышления, следовательно – для речи. Но в этом сдвиге
ударения заключается и принципиальная противоположность имен собственных и имен
нарицательных. Из строения слова вытекает необходимость в данном
словоупотреблении данного слова апперцепировать определенный признак. Но при
этом мы можем: либо все остальное множество признаков, примысливаемых данному,
считать лишь терпимым, но туманом, психологическим туманом, замутняющим
логическую чистоту мысли, и следовательно, стараться не замечать самой
реальности, либо, напротив, в отдельном апперцепируемом признаке ценить орудие
проникновения в реальность, а в ощущении последней видеть не туман, а
настоящее, самый цимес[14]
познания. В первом случае реальность – при признаке: это – имя нарицательное. Во втором – признак при реальности, и тогда
разум имеет дело с именем собственным.
Вообще, этимологически имя
собственное так же узко, как и сокоренное ему имя нарицательное; но семему его
мы признаем бесконечно полно-содержательной и хотели бы, сколько сил хватит,
держать в сознании всю ее полноту. И
мы достигаем этого; но не накоплением отдельных признаков, а усмотрением
индивидуальной формы или «этости» (haecceitas, Diesheit, tТ de t…) этой семемы, в силу чего собственным именем мы считаем уже
не то нарицательное имя, которое равносильно собственному по внешнему учету, а
самую «этость», индивидуальную форму бесконечно полной семемы: «haecceitas est singularitas»[15]. Входит же в речь
это «основание индивидуальной вещи» помощью лингвистического материала, взятого
от соответственного имени нарицательного. Имя собственное выращивается обычно
на имени нарицательном, но может быть образ действия и прямо противоположный.
Тогда мы берем тот же самый лингвистический материал, может быть, даже добываем
его себе, разрушив некоторое собственное имя, по возможности урезываем семему,
представляя ей необходимое число признаков. Получается имя нарицательное. Так,
у того существа, которое называлось собственным именем макинтоша, был
несомненно свой духовный облик, была внутренняя жизнь по своему, ни с чьим другим
не смешиваемому ритму, были жена и дети, и отношения его к семье были
единственными в мире, были друзья, и для них он не был только средством, – но
всю эту семему, этот мир отношений, эту полноту haecceitatis язык отрезал от
семемы «Макинтош», – всего-навсего
подстригши два торчащих острия первой буквы, – и остался тогда только макинтош.
VIII.
Если имя – имя нарицательное
– больше себя самого, будучи и именующим и именуемым, то еще правомернее то же
утверждение может быть высказано об имени собственном. Некоторый оттенок
разницы, впрочем, должен быть отмечен: имея цель не в самой реальности, а в
чем-то другом, конечным счетом – в говорящем, имя нарицательное, хотя и есть
именуемая реальность, но преимущественно служит самообнаружением познающего и
есть преимущественно он, сам он.
Напротив, имя собственное имеет в виду познаваемое, и потому, хотя и оно раскрывает познающего и есть он, но преимущественно являет
познаваемую реальность и есть самая реальность. Тут не приходится чертить схем
вполне крепкими линиями: имя собственное и имя нарицательное, хотя и
противоположны по внутреннему ударению, однако в процессе речи нередко
превращаются друг в друга. Иногда в корыстном сознании вдруг сверкнет луч любви
к самому предмету, прагматическая общность – нарицательность – имени его
забудется, – и тогда, как говорится, «олицетворенное» или «персонифицированное»
имя сделается собственным, – не как бы собственным, а в самом деле таковым,
хотя и на мгновение. Так облекались мгновенною индивидуальностью римские боги,
и нарицательные имена их вспыхивали блеском личных, – но тут же угасали. Но и
обратно: познание в любви и нравственное общение с познаваемым, случается,
меркнет[16],
и живое лицо порою ниспадает в нашем сознании от самоцели – до уровня средства.
Этот скачок от одного рода познания – к другому каждый из нас знает по опыту;
разве не со всяким случалось, что лицо собеседника, только что уводившее вглубь
личности и раскрывавшее пред ним сокровенную жизнь ее, вдруг подергивалось
какою-то онтологической пеленой и, словно оторванное от своей сущности,
предстояло нам как внешняя вещь? И разве не со всяким случалось, что взор,
проникавший в бесконечность встречного взора, вдруг упирался во влажную
выпуклость глазного яблока и тупо скользил по коже, рассматривая поры лица? Тогда
целостная и единая в своей полноте личность не казалась ли нам плохо связанным
пучком отдельных признаков? При таком затмении собственное имя, сохраняя
неприкосновенность своей лингвистической материи, получает иную точку
внутреннего упора и, утратив свою собственность, становится нарицательным.
«Теперь мог бы спросить тебя, любезный читатель, не было ли в твоей жизни
часов, дней и недель, когда все твои обычные занятия возбуждали в тебе
мучительное отвращение, и все, что
прежде представлялось тебе важным и достойным удержания в уме и памяти,
казалось тебе ничтожным и пустым. Грудь твоя вздымалась от
смутного чувства того, что где-то и когда-то должно быть исполнено переходящее
за пределы всех земных наслаждений желание, которого не смел выразить дух твой,
подобно пугливому, строго воспитанному ребенку, и в этом стремлении к чему-то
неведомому, преследовавшему тебя, куда бы ни шел ты и где бы ни находился, как
легкий сон с прозрачными образами, разлетающимися от пристального взгляда, – ты пропадал для всего, что тебя окружало.
Мудрый взор твой скользил по всему,
как у безнадежно влюбленных, и пестрая толпа людей с ее разнообразными деяниями
не возбуждала в тебе ни горя, ни радостей, точно
будто ты не принадлежал уже к этому миру».[17] Так
изображает Гофман общее переживание мирочувствия, при оторванности от живого
соприкосновения с реальностью. Проведенное последовательно, оно дает картину
психопатологической изоляции от сущности мира, при неврастении, и от сущности
себя самого, при истерии. Когда имена собственные обращаются в нарицательные –
это симптом может быть и тонкого, но несомненно духовно-функционального
заболевания.
Некоторые приемы словесного
искусства, как тонкие яды, способствуют этому болезненному отщеплению признаков
от личности и перерождению имени собственного в нарицательное, в имя некоторой
маски – лица, отщепившегося от личности. Наиболее явный пример таких личин –
гоголевские герои, имена которых неизбежно напрашиваются в нарицательные и,
следовательно, являют не столько именуемых, как приемы мышления именующего, а
значит, его приемами – самого его только. «Над кем смеетесь? – Над собой
смеетесь». Конечно, я, именующий ближнего чичиковым или собакевичем, хотя бы я
очень метко поймал соответственный признак ближнего, все-таки смеюсь над собой,
коренным образом извратившим устав познания и природу имени, и о себе
свидетельствующий тем, как об извратителе. Такой деятельности вполне подходит
название имеборчества, наподобие иконоборчества, – что собственно значит
разламывание, сокрушение икон или имен по духовной их сути: иконокласт –
сокрушитель икон, ономокласт – сокрушитель имен. А противоположная
деятельность, т.е. соблюдение духовной сути имен, целостности ее, защиты ее от
покушений и тем самым воздаяний чести и славы, по праву приличествующей имени,
не без смысла получила название имеславия.
Вникавшему в богословские
споры по этому вопросу, конечно, понятно, что хотя здесь термины имеборчества и имеславия употреблены расширительно, тогда как в бывших доселе
спорах речь шла почти исключительно об Одном Лице и об одном Имени, но философское ядро этих споров таким
расширением не только не искажается, напротив, уясняется как принцип
познавательно-трудовой жизни, в противоположность
иллюзионистическо-внебытийственной.
IX.
Богословская позиция имеславия
выражается формулой:
«Имя
Божие есть Сам Бог».
Более расчлененно оно должно
говориться:
«Имя
Божие есть бог и именно Сам Бог, но Бог не есть ни имя Его, ни Самое Имя Его»[18].
Наиболее ясно это может быть формулировано на языке, исключительно
приспособленном к передаче оттенков философской мысли:
|
TХ ”Onoma to Qes |
Ґll' Р QeТj |
Поясним последнюю формулу. По-гречески член-определитель выделяет речение, к которому
прилагается, и ставит его вне ряда
подобных ему содержаний мысли: этим устанавливается единство содержания и его
само-тождество в мысли, а потому – его нумерическое само-тождество. Признак,
как нечто общее, не может иметь члена. Следовательно, понятно общее правило
греческого синтаксиса, согласно которому при сказуемом член просто не ставится.
Но в некоторых, чрезвычайных случаях, например в философии, в богословии, в
частности – в новозаветном языке, сказуемое все же имеет член. Это нарушение общего правила показывает тогда, что
сказуемое берется не как общее понятие, под которое, в объеме его, подводится
подлежащее а как некоторая конкретность, онтологически уравниваемая
конкретности подлежащего. Во внешнем опыте и по внешним соображениям реальность
подлежащего и таковая сказуемого не только не одно, но даже не сопоставляемы
между собой. Но в плане внутреннего соотношения бытий, по суждению
онтологическому, эти две реальности связью данного предложения утверждаются как
одно и то же: не сходное между
собой, а бытийственно тождественное.
Иначе говоря, сказуемое понимается как платоновская идея – конкретная полнота
смысла Словами: «Вы есте соль мира – `Ume‹j ™ste tХ ¤laj tБj gБj (Мф. 5, 13) –
утверждается не то, что апостолы в каком-то внешнем отношении похожи на соль,
или что понятие о них – апостольство – подводится под физико-химическое родовое
понятие соли (тогда надо было бы сказать: «`Ume‹j
™ste ¤laj tБj gБj»), но – что духовная сущность соли и духовная сущность данных лиц
бытийственно отождествляются; соль, то, чему, собственно, в онтологически
истинном смысле принадлежит название Соль, – это не есть что-либо иное, как
внутренняя соль апостольства: обычная соль, вещество, есть один из частных
символов Соли, а апостольство есть самая Соль. (Аналогично применение члена при
сказуемом в Мф. 5, 13; 5, 14; 6, 22; 16, 16; 26, 28; Мк. 14, 22; I Кор. 11, 23 – 24; Ин. 11, 25; 14, 6; Еф. 1, 23, и т.д.).
Так вот, в вышеприведенной
формуле имеславия подлежащим является в первой части Имя Божие, а во второй –
Бог, и в качестве подлежащих их наименования имеют при себе члены. Сказуемыми
же при них стоят: Бог – в первом случае, и Имя – во втором, и сказуемые эти
поставлены двояко, один раз – без члена, а другой раз – с членом. Это
соответствует, во-первых, подведению (или неподведению, запрету подводить)
подлежащего под понятие сказуемого, а во-вторых – установке онтологического
тождества реальности, принадлежащей сказуемому, с реальностью подлежащего, –
подведение сказуемого под подлежащее. Таким образом, формулою утверждается, что
Имя Божие, как реальность, раскрывающая и являющая Божественное Существо,
больше самой себя и божественно, мало того – есть Сам Бог, – Именем в самом
деле, не призрачно, не обманчиво являемый; но Он, хотя и являемый, не утрачивает
в своем явлении Своей реальности, – хотя и познаваемый, не исчерпывается
познанием о Нем, – не есть имя, т.е. природа Его – не природа имени, хотя бы
даже какого-либо имени, и Его собственного, Его открывающего Имени.
Вполне понятно, прочность
этой формулы или иных, ей соответственных, держится на коренном убеждении
человечества, что явления являют являемое и потому по справедливости могут
именоваться именем последнего. В специальной области, хотя и средоточной по
определяющей ответственности, вопрос о являемости являемого и именуемости
явления по являемому был обсуждаем и приведен к общечеловеческому решению в
Паламитских спорах XIV в. – длительном споре об энергиях и сущности
Божией[21].
Свет, духовно созерцаемый подвижниками на вершине подвига и ощущаемый как свет
Божий, есть ли явление Его Самого – энергия Его существа, или это нечто
обманчивое – субъективное ли в нашей психике, или физический процесс вне нас,
или, может быть, оккультный феномен, но во всяком случае не дающее познания Высшего
Существа? И далее, если правильно первое, то можно ли именовать этот свет
Божеством и Богом? Таков был общий смысл богословских споров. Как и следовало
ожидать, нельзя было бы ответить на поставленные вопросы отрицательно, не
разрушая тем всего здания богословской мысли и, более того, подвига жизни.
Следовательно, в строении богословской мысли логически были предрешены анафемы:
Во-первых, – «тем, которые
принимают воссиявший от Господа свет при Божественном Его Преображении то за
образ и тварь и призраки, то за самое существо Божие [т.е. или признают Фаворский свет не имеющим никакого внутреннего
отношения к являемой сущности, или
самую сущность низводят до процесса явления и тем опять-таки делают последнее
не онтологическим] и которые не исповедуют, что Божественный тот свет не есть
ни существо Божие, ни тварь, но несозданная и фисическая [т.е. от природы,
естества fЪsij происходящая] и осияние и энергия, всегда происходящая из самого
существа Божия».
Во-вторых[22], – «тем, кто
принимает, что Бог не имеет фисической энергии [т.е. энергии, свойственной Его
природе], а – одно только существо [сущность] и что нет различия между
существом Божиим и энергией; кто не хочет думать, что как соединение
Божественного существа и энергии неслиянно, так и различие неизменно».
В-третьих, – «тем, кто
принимает, что всякая фисическая сила и энергия Божества есть тварь».
В-четвертых, – «тем, которые
говорят, что если допустить различие в существе и энергии Божества, то это
значит – мыслить Бога существом сложным».
В-пятых, – «тем, кто думает,
что одному только существу Божию свойственно имя Божества и Бога [сравни пятую
книгу Григория Паламы против Акиндина], а не энергии».
И, наконец, – «тем, кто принимает, что существо Божие может быть
приобщаемо [т.е. людям, вообще твари, – всему, что не есть Сам Бог], и кто не
хочет допустить, что приобщение свойственно благодати и энергии».[23]
Установка церковным
сознанием этих основных положений – по сути дела сводится к необходимости
различать в Боге две стороны, внутреннюю,
или существо Его, и обращенную вовне,
или энергию, причем, хотя и
неслиянные, они неразделимы между собой; в силу этой нераздельности, общаясь с
энергией Божией, человек и всякая тварь тем самым соотносится и с самым
существом Его, хотя не непосредственно, а потому имеет право именовать эту
энергию именем Действующего, – Богом. Ясное дело, эти утверждения решительно
неустранимы с умственного пути всех тех, кто признает религию, отрицание же их
есть не иное что, как коренное отрицание религии вообще, которая есть religio, связь двух миров. Тезис об именуемости энергии Божией Его Именем есть
подразумеваемая предпосылка всякого религиозного суждения: верующему ясно, что
он имеет дело с проявлениями Божиими, но не отождествляется и не сливается с
Его существом, и следовательно, не представилось бы никогда случая употребить
слово Бог, коль скоро этим именем
Существа не именовалась бы по Существу – и деятельность Его. Когда говорится:
«Бог спас», «Бог исцелил», «Бог сказал» и пр. – всегда имеется в виду
соответственная деятельность Его, – деятельность спасения, деятельность
исцеления, деятельность говорения и пр.; если неправильно говорить в этих и
подобных случаях так, как говорится, то тогда слово Бог должно быть просто вычеркнуто, как ненужное, за отсутствием
случаев применимости, – из лексикона. Иначе говоря, богословские споры XIV в.
вовсе не придумали чего-нибудь нового, тем более не внесли схоластических
скрупулезностей, но лишь четко прорисовали и закрепили за общим человеческим
вселенским разумом то, что им, разумом, всегда и повсюдно признавалось.
Да, не обмолвкою здесь
вырвалось слово о вселенскости и всенародности: ведь интеллектуальный упор
Григория Паламы и его единомышленников, хотя исторически и был сосредоточен в
узкой области, но, по сути своей, провозглашенные паламитами начала относятся к
области неизмеримо более широкой, чем то кажется при внешнем учете, и даже
трудно сказать, где они не применимы. Не требуется богословствовать, не
требуется даже быть верующим, чтобы понять ценность этих начал в общей экономии
мысли: тут достаточно утверждать жизнь и сознавать свою солидарность с
человеческим родом. Ведь дело идет о соотношении сущности и ее энергий, а о
какой именно сущности, это зависит всякий раз от обсуждаемого вопроса. Так,
атеист не станет, конечно, обсуждать энергии Божией, раз он не верит в самое
существование Высшего Существа; но это не значит, что ему, в его умственном
обиходе, совсем не нужны тезисы, утвержденные сознанием XIV в.:
признавая какую-нибудь сущность, – человека, животного, материи, электрона, и
т.п., – он тем самым столкнется с гносеологическим вопросом о соотношении этой
сущности и ее проявлений, а потому жизненно вынужден будет решить себе этот
вопрос либо в сторону призрачности жизни, либо в сторону ее подлинности, – и
тогда он будет паламитом. Верующему и неверующему, православному и иудею,
живописцу и поэту, естествоиспытателю и лингвисту – всем есть нужда в ясности
познавания учения о сущности и энергиях, потому что только ею решается основной
вопрос о познании в соответствии с естественным способом мыслить всего
человечества.
В самом деле, человеческому
мышлению о действительности неизбежно присущи два первоосновных понятия –
понятие сущности или существа, являемого, и понятие энергии, или деятельности
явления. Следовательно, отвлеченно говоря, эти два термина могут быть связаны
нижеследующими четырьмя, между собою различными, «включениями», если воспользоваться этим термином символической
логики. Иначе говоря, признание, утверждение одного первоосновного понятия
влечет за собою или утверждение, или отрицание другого; или по схеме:
«Если есть А, то есть В»,
или же по схеме: «Если есть А, то нет В». Но так как отношение включения
(инклюзии) терминов мысли (понятий, суждений) необратимо, не может быть
прочитываемо наоборот, то наличие двух терминов требует и самостоятельной
установки обратного включения, каковое может быть, как:
Если
есть В, то есть и А,
так
и:
Если
есть В, то нет А.
Итак, наличие двух терминов
мысли ведет за собою возможность четырех
включений, – в символическом знакоположении:
А É В А É – В
В É А В É – А
где É означает связь
включения: «следовательно», «если – то»,
«когда – то», «or», и т.п., а минус перед
знаком термина - его отрицание, частицу «не».
Охарактеризовать соотношение двух терминов можно, однако, лишь двумя
включениями зараз, а не единичным порознь. Следовательно, в нашем случае есть
отвлеченная возможность четвероякого учения о сущности и энергии, логически
схематизируемая четырьмя парными инклюзиями. – В знаках:
|
I |
А |
É |
В : В |
É |
А |
|
II |
А |
É – |
В : В |
É |
А |
|
III |
А |
É – |
В : В |
É – |
А |
|
IV |
А |
É |
В : В |
É – |
А |
Никаких иных логических возможностей не существует, как явствует из
теории сочетаний. Теперь, переводя буквенные обозначения на соответственные
термины, явление и сущность, мы можем написать
нижеследующую табличку возможных учений:
|
I |
явление É сущность :
сущность É явление |
имманентизм |
|
III |
явление É – сущность :
сущность É явление |
крайний позитивизм |
|
III |
явление É – сущность :
сущность É – явление |
кантианство |
|
IV |
явление É сущность :
сущность É – явление |
платонизм |
Первое учение нацело отождествляет вещь и явление и
не считает возможным усматривать между ними какое бы то ни было различие; это –
имманентизм, решительно враждебный
тому, что мыслит вообще человечество о действительности, ибо явление, по
общечеловеческому сознанию, вовсе не исчерпывает собою полно-реальности
являемого. Второе учение, погрешая
растворением реальности в явлении, вместе с тем не признает, что явлением
показуется самая реальность; это крайний позитивизм.
Третье учение правильно, по
общечеловеческому воззрению, отмечает несводимость вещи к ее явлению, но
погрешает, как и позитивизм, утверждением о непознаваемости реальности через ее
явление – кантианство. Наконец, четвертое учение разделяет с
кантианством убеждение в самостоятельной реальности сущностей, имеет общий
тезис и с имманентизмом, когда он утверждает, что явлением в самом деле объявляется
сущность. Таким образом, последнее из рассматриваемых учений отчасти родственно
кантианству, отчасти – имманентизму, но решительно исключается крайним
позитивизмом. По одной из наиболее четких редакций, эта противоположность
позитивизму приурочена в таблице к имени Платона,
хотя это учение несравненно шире мысли Платоновской школы, и есть мировоззрение
общечеловеческое. Богословские споры
XIV, а затем XX-го веков в
логической сути своей отстаивали именно теоретико-познавательную схему
А
É В : В É – А.
Таков общий смысл имеславия
как философской предпосылки.
XI.
В заключение этой главы об
имени следует вглядеться, как же самый язык этимологией и семасиологией
свидетельствует о познавательном значении имени.
Итак, прежде всего, что
хотим сказать мы, когда говорим слово имя?
Что хочет сказать каждый человек? – Конечно, разное. Но это разное вырастает у
всех индоевропейских народов на одном
корне, равно как на одном корне вырастает соответствующее слово в языках
семитических.
И-мя, с основою и-мен, в
самом деле, древнецерковнославянское И-М˜ = И-МЄ, МЯ = М˜ =
латинскому men, mentum = санскритскому man
= греческому ma = и т.д.
Это окончание указывает на отглагольность слова, т.е. на
производство существительного из глагола, а не глагола от существительного.
Другими словами, существительное имя
своею формою уже показывает, что оно выкристаллизовалось по кристаллической
системе (категории) действия или состояния, но в сути своей не
обозначает вещи: это веще-образное действие или состояние, но не источник
действия – не субстанция. Имя есть название какой-то деятельности, а не дела,
не готового продукта, – оно означает ™nљrgeia, а не њrgon. Но можно сказать
об имени, по его грамматической
форме, и более того: окончание мя,
М˜, men и пр. указывает на деятельность в ее отвлечении, в
ее мысленном обособлении от действующего, т.е. на деятельность, которая может
быть, или по крайней мере мыслится как нечто самостоятельное. Дальнейший вопрос
– какое именно содержание этой
деятельности? Если мя есть часть
формальная, т.е. отливающая понятие в определенную форму, часть слова, то
очевидно, на долю содержательной остается только звук и. Слово имя мы
произносим как ймя, т.е. с й, j.
Но й, «полугласная», по определению элементарных учебников, есть гортанное легкое придыхание (ср. с
еврейским йодом). Эта гортанность начального звука особенно выразительно
свидетельствуется чешскими jmЋ
и jmйno, где стоит уже не
йотированное и, а явное j, и богемским gmeno – ймено, уже с осязательно гортанной g. Итак, кроме
формальной части мя в слове имя есть еще коренная гортанная, – один
элемент корня:
имя = гортанное + ?
+ мя.
Далее, слово имя
произносится с оттенком йммя и уже
как йнмя; это произношение мало
заметно, но что им˜ = им-м˜ = ин-м˜, это видно из малороссийских:
имъя, имня, имен-о, имьня, на-мено, и польского imi.
Им-ня не есть метафезис, из
инмя. Следовательно, в корень слова имя
входит еще носовой звук н,
ассимилирующийся с формальным м. Но отсюда еще не следует, чтобы этим звуком
исчерпывался корень, и потому:
имя = гортанное +
носовая + ? + мя.
Чтобы выяснить этот неизвестный элемент корня, обращаемся к другим
индоевропейским языкам:
|
латинское – |
nomen |
|
санскритское – |
namen |
|
древнебактрийское –
|
nama |
|
новоперсидское – |
nam |
|
готфское – |
namф |
|
древневерхненемецкое
– |
namo |
|
осетинское (дичарское) –
|
nom |
|
французское – |
nom |
|
немецкое – |
Name |
|
армянское – |
a-nun |
|
греческое – |
Ф-noma |
Обращаем внимание на
разительное сходство слов: оно доказывает древность их и делает тем интереснее.
Утеря же коренных звуков в свой черед показывает обветшалость этих слов, от
долгого употребления полуразрушенных.
Из сопоставления приведенной
таблички видно, что в корне слова была гласная, равносильная долгому ђ или o – звук промежуточный между
ђ и o, который получится,
если быстро произносить aoaoao…….; так и еврейский
камед, долгое ђ – произносится по-сефардимски иногда, a по-ашкеназимски всегда –
как o.
Таким образом, состав
исследуемого слова определяется равенством:
Имя =
гортанное+носовая,+гласная ђo+мя. Большинство языков утеряло гортанное, а у других языков оно
перешло в зубную, подобно тому, как й, j или в слове иудей, йудей
перешло в ж (жид), или как во
французском juif; так в том же языке гортанное g
часто произносится как ж.
Латинское nomen было первоначально gnomen, что видно из сложных слов,
где требования евфонии заставили сохранить архаическую форму: co-gnomen, a-gnomen. Поэтому может быть
написана лингвистически пропорция:
![]() Gnosco входит в слова co-gnosco, a-gnosco и т.д. Здесь
Gnosco входит в слова co-gnosco, a-gnosco и т.д. Здесь ![]() : греческое Фnoma есть Ф-gno-ma, и это сказывается в
ионийском oЬnoma, где с выпадением g произошло в виде компенсации удлинение
начального o. Здесь
: греческое Фnoma есть Ф-gno-ma, и это сказывается в
ионийском oЬnoma, где с выпадением g произошло в виде компенсации удлинение
начального o. Здесь ![]() от
от ![]() – gi‑gnиskw,
њgnwn, њgnwka, gntТj, gnиisma и т.д. Санскритское naman первоначально gnaman, жнаман; сохранилась и форма жнаман, в значении признак, примета. Здесь
– gi‑gnиskw,
њgnwn, њgnwka, gntТj, gnиisma и т.д. Санскритское naman первоначально gnaman, жнаман; сохранилась и форма жнаман, в значении признак, примета. Здесь ![]() .
.
Имя – от ![]() Тут – понятие познания, апперципирование объекта
путем отметы его, наложения знамения, знака.
Тут – понятие познания, апперципирование объекта
путем отметы его, наложения знамения, знака.
Наименование, согласно пониманию,
закрепленному в самом языке, есть, следовательно, не что иное, как буквально, т.е.
по буквам даже, этимологически, познавание
– деятельность или действие, посредством которого познаем.
Nomen notio nota rei
(Имя = понятие = признак вещи).
«(G)nominibus (g)noscimus» –
«именами знаем» и «знанием именуем»:
это не только философские афоризмы, но и этимологические прописи.
В русском языке от корня зна оставалось в слове имя только з, да и то в преобразованном виде, как придыхание й. Но это-то, чуть слышное дыхание в
начале слова, этот легчайший гортанный, даже не звук, а призвук, выдает нам,
что имя и по структуре, и по корню –
совершенно то же, что знамя, но
только понятие знания, содержащееся в имени
и в знамени, дифференцировалось,
сохранив в имени наиболее
абстрактный и деятельный оттенок своего смысла, а в знамени – наиболее конкретный и предметно законченный.
XII.
Обратимся теперь к
этимологии слова, соответствующего имени, в языках семитских.
Там[25]
где в славянской Библии стоит им˜, – масоретский текст еврейской Библии
употребляет не одно слово, а два, различные, первое из них, сравнительно
редкое, JPA – зехер, а второе – постоянно встречающееся, TW– шем, Слово зехер
не означает имени в строгом смысле
слова, и может быть передано в одних местах священного текста – чрез память, Andenken, memoria, а в других – чрез воспоминание,
Erinnerung, Gedдchtnis, recordatio.
В самом деле происхождение
RPA насквозь прозрачно, от ROB захар, я помню (так, Захария – «Господь
вспомнил»). Поэтому зехер объекта –
памятка его, сувенир его, мнемоническое орудие и, вместе, результат памятования.
Это – a) память, memoria; b) имя – которым
мы помним (у LXX[26] – Фnoma), и
в) похвала, прославление, «он – человек с именем».
Насколько проста этимология
сравнительно редкого зехер,
настолько же темна она в отношении постоянно употребляемого шем. Впрочем, чаще всего бывает, что
самым трудным для анализа оказывается окружающее нас, повседневное и повсюдное,
и так во всех областях.
Общий смысл этимона шем ясен – это знак (Zeichen, signum, designatio), признак (Kennzeichen), примета (Merkmal). И так – по мнению одних исследователей. А по другим, шем – это то, что выступает видимо и
делает кого-нибудь или что-нибудь приметным.
Нижеследующая табличка
сопоставляет слово имя в различных
семитских языках, при этом в транскрипции принято, по В.В.Болотову, передавать
еврейское алеф и арабское алиф чрез Ь,
а еврейское ’айн, равно как и арабское ’айн, чрез Ъ.
|
Древнееврейское |
– |
TW |
ШеМ |
|
арабское |
– |
ЬиСеМ |
(СуММ) |
|
эфиопское |
– |
СаМе |
|
|
арамейское |
– |
TW |
ШеМ |
|
финикийское |
– |
TZ |
|
|
сабейское |
– |
TU |
СМ |
|
ассирийское |
– |
M |
ШуМу |
Итак, корень этих слов –
явно один: это – звук промежуточный между шипящей и свистящей, т.е. Z еще не
дифференцированное в X или в Z, и м,
G. Но откуда этот корень ![]() ? Уже в Древности среди арабских языковедов были две школы, различно объясняющих
этимологию слова ЬиСеМ. Одна из них утверждала, что ЬиСеМ, первоначально ВиСеМ,
происходит от трехбуквенного корня ВСМ, а другая – производила слово тоже от
трехбуквенного корня СМЬ. И тот и другой корень, как вообще корни трехлитерные,
– глагольный, и значит, обе школы
признавали слово шем за отглагольное существительное, т.е. за действие, рассматриваемое независимо от
действующего. И нужно признать, черты сродства между словом, нас занимающим, и
теми глагольными корнями указывались не неосновательно.
? Уже в Древности среди арабских языковедов были две школы, различно объясняющих
этимологию слова ЬиСеМ. Одна из них утверждала, что ЬиСеМ, первоначально ВиСеМ,
происходит от трехбуквенного корня ВСМ, а другая – производила слово тоже от
трехбуквенного корня СМЬ. И тот и другой корень, как вообще корни трехлитерные,
– глагольный, и значит, обе школы
признавали слово шем за отглагольное существительное, т.е. за действие, рассматриваемое независимо от
действующего. И нужно признать, черты сродства между словом, нас занимающим, и
теми глагольными корнями указывались не неосновательно.
Вслед арабским ученым пошли
и европейские. Но, как и в арабской науке, при всей убедительности аргументов в
пользу как того, так и другого изъяснения этимологии шем, самая двойственность, самая равноубедительность двух изъяснений делала их
бездейственными, и некоторые исследователи отказывались объяснить странную
этимологию, которая темна именно оттого, что имеет два объяснения, оба достаточно
прозрачные. Но в последнее время эта проблема шем решилась весьма просто – и по-колумбовски. Таким колумбовским
яйцом оказалось в данном случае признание, что семитские корни могут быть не
только трехлитерными, но и двухлитерными. Фабр
д'Оливе[27]
утверждал это в первой половине XIX века, но голос его был
одиноким. Когда же Кауч и Циммерн[28]
признали эту возможность, то открылось широкое поле к примирению враждующих
школ, – что сделали Редслаб и Бемер[29].
Они переворачивают все предыдущие построения на голову. Если несомненна
родственность слову шем корней ВСМ и ШМЬ, то, очевидно, все три слова должны быть сведены к единству.
Но, согласно аксиоме современного языкознания, слово не может происходить от
двух корней сразу; и слово шем не
может корениться в двух глаголах зараз, – и, следовательно, это они оба
коренятся в шем.
Есть основной ствол,
ответвлениями которого служат трехлитерные корни всм и шмь; стволом этим
должно признать по новейшим языковедам гипотетический двухбуквенный глагольный
корень TZ![]() с означением «извне
быть приметным». Отсюда – всм в
двух (переходном и непереходном) значениях, отсюда и
с означением «извне
быть приметным». Отсюда – всм в
двух (переходном и непереходном) значениях, отсюда и ![]() с значением
непереходным.
с значением
непереходным.
На основании сказанного
может быть построена нижеследующая
генеалогия корней:
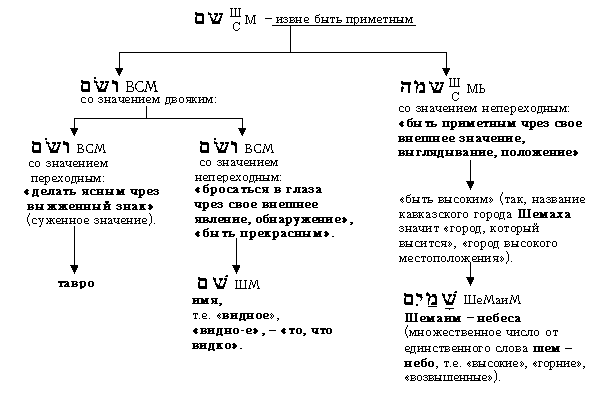
По этим объяснениям, шем означает то, «что выступает видимо
и делает кого-нибудь приметным». «Выдающееся вперед, выступающее на вид,
бросающееся в глаза» – вот что составляет суть вещи и явления. Для древнего
семита это – не субъективность, а самообнаружение вещи в себе. Оно и есть шем.
Эти объяснения можно
упростить, оставляя гипотетический глагольный корень шм и полагая источником глагольных корней непосредственно
существительное шем. Тогда вместо
прежней схемы:
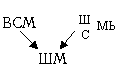
возникает обратное:
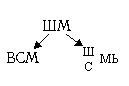
Это предположение тем более
вероятно, что шем имеет характер
массивный, вещный, субстанциальный, существительный в большей степени, нежели имя, более действенного, более
энергетического, глагольного оттенка. Шем
есть более существительное, чем имя – преображенный глагол.
XIII.
Значение найденных
этимологий раскроется более полно впоследствии, при историческом
фольклористическом разъяснении соответственных вопросов. Но и тут поучительно
сопоставить этимологию индоевропейского корня ![]() и семитского
и семитского ![]() . Во-первых, признаки сходства: а) и тут и там, т.е. и у
арийцев, и у семитов, по коренному значению, т.е. по содержанию наиболее
основному, имя – это знак, в наиболее общем смысле слова.
б) Знак же есть то, что выделяет объект из недифференцированной среды, что
обособляет его, уединяет из хаоса, из сплава слитных впечатлений. Иначе говоря,
этот знак имеет внутреннейшее отношение к процессу познания знаменуемого или, что то же – именуемого.
. Во-первых, признаки сходства: а) и тут и там, т.е. и у
арийцев, и у семитов, по коренному значению, т.е. по содержанию наиболее
основному, имя – это знак, в наиболее общем смысле слова.
б) Знак же есть то, что выделяет объект из недифференцированной среды, что
обособляет его, уединяет из хаоса, из сплава слитных впечатлений. Иначе говоря,
этот знак имеет внутреннейшее отношение к процессу познания знаменуемого или, что то же – именуемого.
Что[30]
познаем мы именами – об этом равно свидетельствует и арийская, и семитская
группы языков. Но свидетельствуют об одном факте – с разных сторон. В акте
знания мы различаем содержание его
от его формы, – что знания и как
знания. Рассуждая теоретически, мы уже характеризовали эти два момента как две
энергии – энергию познаваемой реальности и энергию познающего субъекта. Но,
хотя в акте познания обязательны и та и другая, однако, в самосознании
познающего выступает преимущественно или та, или другая: гармоническое
равновесие обоих акцентов не находится в равновесии устойчивом. Поэтому имя, как зрелый акт познания, получает
преимущественную окраску или от момента реального, объективного, или – от
формального, субъектного (последний термин применяю по следам В.Ф.Эрна, – имея
в виду отметить деятельность и участие субъекта познания, но отвести мысль от
оценки этого участия, как чего-то иллюзорного, случайного, повреждающего
ценность познания, – с каковым оттенком установилось слово субъективный). Размышляющие о познании редко удерживаются в
положении равновесия, а вообще говоря, стремятся к предельному освобождению
познания либо от одного, либо от другого его момента: когеновский панлогизм и
авенариусовский эмпириокритицизм в последнее время были крайними выразителями
того и другого течения. Но уже в духе языков заложены оба направления мысли,
только без крайности уничтожения подчиненного момента познания Шем и ему сродные – это познания со
стороны познаваемого объекта, это то, на что направлено переживание, – что
переживается. Имя и его арийские
сродники – это познание со стороны познающего субъекта, то, что служит орудием
познания. Шем метит преимущественно
в познаваемую реальность, а имя имеет
в виду на первом плане познающего. Но реалистический момент в своей глубине
есть интуиция, еще глубже – мистика; идеалистический же – конструкция разума.
Поэтому семитское шем на
поверхностном плане соответствует сенсуализму, а на углубленном –
конструктивному идеализму. Если продолжать линии общих устремлений, то на
первом одностороннем пути лежит невыразимое словом бесформенное мистическое
волнение, музыка, заумный язык, а на втором – беспредметная логика, шире –
математика, «не знающая, о чем она говорит и истинно ли то, что она говорит».
На это крайние пределы коренной антиномии знания, которые языками указуются, но
не утверждаются в своей отъединенности: хотя и с различными ударениями, но и в шем, и в имя наличны оба момента. Познаваемое метафизически входит в
познающего, а познающий метафизически выходит из себя к познаваемому, облекает
его собою. Первый акт есть мистическое восприятие, по существу своему
мистическое, как бы его ни называли, второе же – наименование: в первом мы
приемлем в себе познаваемое, а вторым – себя проявляем в мире, – трудовое
отношение к познаваемому. Но ни тот, ни другой акт не могут быть уединены друг
от друга; перефразируя Канта, мы можем сказать: «восприятия без выхождения
слепы, выхождения без восприятий пусты, или знание без слова бессознательно, а
без мистики – не жизненно»[31].
Своей этимологией семиты показали, что ценят в познании преимущественно
реальность, а в именах – предметы, тогда как арийцы дорожат разумностью
познаваемого, а в именах – понятиями. Nomen – omen, имя – примета, с одной стороны, и nomen – notio, имя – понятие – с другой: такова антитеза ![]() и
и ![]() , философски завершившаяся именами Спинозы и Канта.
Углубляясь в эту антитезу, мы подошли бы к теоретико-познавательному, а затем и
онтологическому сопоставлению начал женского, рецептивного, и мужского –
нормативного (каббала)[32]. Но
сейчас нам важно отметить не это противоположное, а основное сходство, тот
общий предел обоих рядов мысли, установке которого совместно служат они. Для
всех народов имя не есть пустая кличка, не «звук и дым», не условная и
случайная выдумка, хотя бы «ex consenso omnium»[33], а полное смысла и
реальности явленное в мире познание о мире.
, философски завершившаяся именами Спинозы и Канта.
Углубляясь в эту антитезу, мы подошли бы к теоретико-познавательному, а затем и
онтологическому сопоставлению начал женского, рецептивного, и мужского –
нормативного (каббала)[32]. Но
сейчас нам важно отметить не это противоположное, а основное сходство, тот
общий предел обоих рядов мысли, установке которого совместно служат они. Для
всех народов имя не есть пустая кличка, не «звук и дым», не условная и
случайная выдумка, хотя бы «ex consenso omnium»[33], а полное смысла и
реальности явленное в мире познание о мире.
Что – имя? …… только звук.
Так не думали древние: имя
для них было познанной и познаваемой сутью вещи, идеей. Назначение его – выделять объект из общего хаоса
впечатлений и соединять с другими, но уже координированно. Функция имени есть
связность. Имя размыкает беспорядок сознания и смыкает порядок его. Оно и
реально, и идеально. Оно есть начало членораздельности, начало расчлененности,
начало лада и строя. Короче, имя не есть звук, а есть слово, lТgoj, т. е, слово = разум, звук = смысл, то и другое в их
слиянности. А если так, то не прав ли Гёте, переводящий Евангельское Слово –
чрез Деяние – That. «В начале было Деяние»[34],
ибо только слово имя может быть
деянием. В слове мы приобщаемся Вселенскому Слову, Вселенскому Разуму,
Вселенскому Деянию, в котором «живем, движемся и существуем»[35].
XIV.
До сих пор содержание и
объем слова имя определялось
посредством его корня, и следовательно, имя
рассматривалось как одно из Wörter, mots, как одно из мертвых
слов. Но необходимо вслушаться в него как в живое слово, стоящее в связном ряду
Worte, paroles – в контекстное раскрытие корневого содержания.
Выяснить, какими гранями поворачивалось имя
в живой речи, необходимо, если мы хотим опереться на народное сознание.
В древнецерковнославянском и
в русском языках им# означает:
1. Нарицательное или
собственное название человека и
вообще всякого предмета, nomen вещи или лица. В ряде
древних памятников, начиная с <XI> века,
встречается такое словоупотребление, примеры чему собраны у Срезневского[36].
2. Слава, известность, широко распространяющаяся молва о ком-нибудь.
Так: «приобресть имя» = прославиться; нажить, создать себе доброе (худое) имя =
приобресть добрую (худую) славу, создать о себе хорошее (худое) мнение;
«человек с именем» = имеющий вес, значение, положение в обществе или по службе.
Отсюда именитый, т.е. с «именем»,
имеющий имя = знаменитый, как этимологически, так и по значению, также славный,
отличный, СnomastТj, clarus.
3. Вообще слово.
4. Имя существительное.
5. Наконец, имя
означает лицо или вещь, которая носит данное название: имя отождествляется с носителем
его. Например, «бесславить, позорить чужое имя», «сделать известным, прославить
свое имя». Бесславится или прославляется лицо, но если вместо лица говорится об
имени, то это значит, последнее понимается как эссенция самого носителя, самый
важный элемент в нем. В связи с таким пониманием имени объясняет
Е.Е.Голубинский[37]
выражение «имя давать» как «угождать, благоприятствовать кому». Именем = на
основании, силою. Именем NN – по распоряжению, по
приказу NN, так что заявляющий: «Именем…» несет на себе, имеет
при себе самую суть, vigor[38], самый цвет
волевого акта того, кто дал приказ, сосредоточенными в его имени, как эссенция
всего существа. Подобно тому «во имя», или «в им#» значит по имени, в честь, в память. Но как действие
совершается ради носителя имени, но не ради названия отвлеченно от него, то под
именем здесь разумеется либо
непосредственно самый носитель его, в деятельности его силы, либо его
эссенциальный элемент, – представление, особенно ярко выраженное в парсизме[39]
и в древнем Египте, где имя мыслилось как одна из существенных составных частей
личного существа.
Другой отпрыск того же корня
зна есть глагол знати, т.е.
«признавать, познавать, исполнять, быть подведомственным, отличать, увидеть, заметить»,
и все гнездо его производных. Эта группа слов коррелятивна с группой
производных от имя и часто означает
почти те же понятия, что и последняя. Так, знаменати
= указывать, припечатывать, назначать, посвящать. Знамение = signum, shme‹on, знак, указание,
вообще все, выделяющее объект из ряда других, явление, предзнаменование, чудо
(как то, что, будучи необычным, бросающимся в глаза, указывает на что-то
сверхъестественное), доказательство, tekm»rion, свидетельствование (brabe‹on),
знак, значок, отмета. Знамя почти тождественно этимологически с имя = отличие (?), «отличительный знак,
употреблявшийся в старину вместо подписей безграмотных (а у грамотных
эквивалентом знамени было имя), выставлявшийся также на шкурках зверей,
взносимых вместо податей, и на бортных ухожьях – деревьях с пчелами (знамена
принадлежали и отдельно лицам и целым общинам»); знамя воинское, labarТn, labarum. Знание = gnиmh, знаньство = gnоsij; знак = gnиrisma и т.д. В живом
великорусском языке существует ряд слов от того же корня зна, и все они выражают понятия, стоящие в связи с понятием
выделения, обособления или выделенности объекта чрез особую отметку или примету
его. Среди этих слов упомянем прежде всего назнаку,
наречие, употребляющееся в Тверской губернии и значащее «видно, заметно».
Объект, который назнаку, можно «назнаменовывать, назнаменовать», т.е.
обозначить его, указать на него, назвать его: «знаменать, знаменовать» его,
т.е. намечать, маячить, давать знак. Такой объект «знаменателен,
знаменователен». Рядом с этими словами стоят еще знаменитый и знаткой,
употребляющееся на севере и означающее «видный, приметный, знающий, опытный (он
знаткой знахарь)». Тот (или та), который ведает объекты (для чего должен
заметить их знак и их значение), является знахарем или знахаркой, знахуркой,
знахарищей, знахой, знатоком, знателем, знайкой и т.д.[40]
Обратимся[41]
к обзору оттенков слова Фnoma в языке греческом. В качестве синонимов этого
слова Поллукс приводит klБsij от kalљw: кличка, зов; pro<s>hgor…a
от prosagoreЪw: обращение, приветствие; prТsrhsij и prТsrhma – то, с чем
обращаются, приветствие; љp™klhsij, ™p…klhn – от ™pikalљw, прозвище; ™pwnum…a и Сnomas…a –
прозвание, фамилия. Произведенный от Фnoma глагол СnomЈzein Поллукс
сопоставляет с глаголами kale‹n, prosagoreЪein, ™ponomЈzein[42]. Но эти синонимы
только повторяют тавтогорически[43]
основное значение, Фnoma, слегка варьируя его, но не выясняют ни его, это
основное значение, ни других значений. Между тем Фnoma может означать:
1) собственное или
нарицательное имя, наименование любой вещи или личности, фиксирующее то, что (was) есть некто или
нечто для другого, по крайней мере в подавляющем большинстве случаев – для
другого. Соответственно с этим, Фnoma
еще в древности получало определение вроде: «Первее всего имена служат
представителями (символами) понятий, и потом и предметов», – у Климента
Александрийского[44];
«Имя есть некоторое истинное высказывание присущего именуемой вещи», – у
Пахимера в толковании Ареопагитики «Об именах»[45];
«Имена – объявление (обнаружение – declaratio) лежащих под
ним<и> вещей (rerum subjectarum)»[46].
Но если для
непосредственного миропредставления имена открывают ими именуемую природу вещи,
являясь крайним проявлением ее сущности, то для рефлексии имена уже издревле
противоставлялись вещам. Ряд свидетельств начинается еле очерченным
противоположением имени и вещи, кончается же крайним их антагонизмом. Но этот
ряд еще лишний раз доказывает самым наличием полемики, что было против чего
полемизировать и что, следовательно, представление о тесном единстве имени и
вещи действительно было общим фоном мировоззрения. Среди таких полемических
вылазок отмечаем: «Они по имени, они не на деле друзья», – у Еврипида[47];
«Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв» (Откр. 3, I);
Златоуст убеждает слушателей обращать внимание не на имена, но на самую вещь:
«Не в имени заключены вещи, но природа вещей образует имена, согласно
собственной сущности»[48];
Афинагор же обращается к язычникам, которым было ненавистно самое имя христиан:
«Не имена достойны ненависти, но негодный поступок – наказания и возмездия»[49].
Таким образом,
словоупотребление рефлексивное коснулось и
Фnoma, подобно тому, как явление,
являться fainТmenon, fa…nesJai наряду с основным
положительно-познавательным значением имели иногда и отрицательное
иллюзионистическое. Первоначально Фnoma
употреблялось только применительно к личности:
так – у Гомера. Позже его объем распространился и на вещи. В новозаветном
языке Фnoma с тем или другим значением,
почти всегда относится к личностям; исключение – Мк. 14, 32; Лк. 1, 26; Откр. 3, 12; 13, 17.
Называние именем вводится дательным падежом, СnТmati.
2) Вещи и лицо, носящие
имя, – носители имени. Так: њceij Сl…ga СnТmata (Откр. 3, 4) означает њceij Сl…gouj ўnJrиpouj и переводится: «у тебя есть
несколько человек»; Фnoma в смысле лицо: «ибо нет другого имени (лица) под
небом, которым бы надлежало нам спастись» (Деян. 4, 12); которых
имена в книге жизни (Флп. 4, 3), т.е. которых ждет жизнь, и т.д., Лк. 10, 20; Деян. 1, 15; упоминаемое в
Деян. 19, 13; 26, 9 Фnoma 'Ihsoа означает, как толкуется теперь, Самого
Иисуса и т.д.; а в Деян. 1, 15, Гn dќ Фcloj СnomЈtwn сказано вместо
Фcloj ўnJrиpwn и переводится «было же
собрание человек», turba hominum. Во всех этих
случаях ближайшая, с современной точки зрения, подстановка вместо Фnoma есть
лицо; но было бы грубым искажением текста позабыть при такой подстановке о том,
что лицо все-таки обозначено здесь словом имя:
эти тексты доказывают, что имя столь неотделимо от лица, что последнее именем
представляется в полной мере.
3) Преимущество,
величие, превосходство, честь, слава, nomen, excellentia, amplitudo, eminentia, fama, celebritas, gloria, или величайшее и
превосходнейшее достоинство. Таково словоупотребление в Флп. 2, 9 – Христу дано
Имя, которое выше всякого имени и т.д.; Евр. 1, 4; отчасти с этим
совпадает значение Фnoma в Откр. 3, 12; 22, 4, а также у
Фукидида, Ксенофонта и Филосторгия.
4) Предлог, вид, praetextus, obtentus, prТschma. В этом своем значении Фnoma
употребляется у Фукидида в дательном падеже без или с предлогом ™p€
СnТmati или ep' СnТmati[50]. А у Дионисия
Галикарнасского говорится met' СnomЈtwn kalоn, speciosis praetextibus, – под благовидными предлогами[51].
Сюда же следует отнести найденное в 1845 году епископом Порфирием Успенским
фигурное стихотворение Феокрита «Свирель», где в стихе 6-м о Пане говорится
«oвnom' Уlon d…zwn», согласно чтению и толкованию хартофилакса Иоанна
Пидиасима, под Фnoma надо разуметь облик, вид: «Весь вид его есть вид
двуживотного. Пан составлен из двух животных: верхняя половина его – человек, а
нижняя – козел, Таков вид его, а не имя,
Фnoma, которое Феокрит поставил здесь вместо вида, ўnt€ e‡douj»[52].
Тут проявляется одно из наиболее характерных значений занимающего нас слова:
как вид не противополагается сущности, а обнаруживает ее, будучи ее явлением и
энергией, так и имя объявляет и являет сущность; вид есть зримое имя, а имя –
слышимый вид.
Начиная от субстанциальной
единицы носительницы имени и кончая обманчивым предлогом, Фnoma представляет
обширную градацию понятий, но объем значения еще значительно увеличивается,
если принять во внимание и производные от этого слова, образовываемые сложением
его с разными предлогами и другими корнями; множество таких производных
приведено у Стефана[53].
Особенно значительно выражение e„j Фnoma – во имя, вошедшее в состав крещальной
формы. Следует упомянуть также речения: t…JesJai Фnoma, imponere nomen, налагать имя, metat…JesJai Фnoma –
изменять, собственно перекладывать имя, наложенное ранее, а иногда – называть
измененным именем, metabЈllein Фnoma и т.д. Они показывают, как массивно
мыслилось имя древностью. В латинском
языке словоупотребление nomen весьма сходно с греческим,
и потому обследование его может быть здесь опущено.
Обращаемся наконец к
словоупотреблению еврейского шем. Шем[54]
есть собственно то, что выступает вперед у вещи или лица и потому признается за
выражение внутренней сути. Но далее устанавливается в сознании скала значимости
этих внешних обнаружений: не чувственно поражающее стоит на верхних ступенях
этой скалы, а то, в чем усматривается особенно проникновенное выражение сути.
Совокупность признаков перестает лежать в одной плоскости и уводит вглубь; а
вместе с нею отдаляется и самая реальность. Но монотеисты – моноидеисты: одна
только реальность, но зато ens realissimum[55], духовно занимает
семитскую, в особенности еврейскую мысль. Удаление Бога от мира, существа
Божия, есть руководящая нить истории еврейской мысли; а вместе с тем богатеет
семема слова шем, поскольку Имя
Божие своим безмерным значением попаляет все прочие имена, как пред Существом
Божиим тают все остальные реальности: шем
почти отождествляется с Именем Божиим.
«Легко можно показать, –
говорит один исследователь, – как из простого основного значения шем выведены все различные оттенки
значения, встречающиеся в Ветхом Завете. Прежде всего это – бросающийся в глаза
момент, который делает предмет видимым и познаваемым; внешняя примета,
отличающая лицо или вещь от других.
Так как эта примета лежала в
основе наименования вещи, то она делается именем.
Если этот признак считался ценным или, иначе говоря, если носитель имени
отвечал возложенным на него надеждам, то самое имя его переходило из уст в
уста, бывало часто повторяемым, покуда он не становился известным, даже
знаменитым: так шем стало означать
воспоминание, почет, славу»[56]. Но
так как это имя знаменовало другим свойство человека, то славился он – за свое
имя. Адам почитается именно потому, что он адам – человек. Имя свидетельствует,
что есть, существенно есть его носитель, потому что имя выражало истинное
значение, ценность предмета, и поскольку оно относилось к личности, могло и
должно было по справедливости обозначать ее истинное существо, ее ценность –
внутреннее содержание, ее самое. Однако внешний знак, дававший имя, был не
шире, чем момент, которым апперципировалось внутреннее впечатление: язык
старался передать именно этот момент, потому что в нем семиты видели отражение
главного, внутреннего содержания – зерно вещи, ее целостного существа и
ценности. Поэтому содержание и значение слова шем само подымалось, когда предмет, к которому шем относится, выигрывал, приобретал в содержании и в значении. Имя местности имеет подчиненное
значение сравнительно с именем человека, а это последнее, в свой черед, значит
гораздо менее, нежели Имя Божие. Так произошло, что шем имеет наибольшее содержание, если оно отнесено к Самому Богу.
Сочетание KDKaTW<Шем Яхве> употребляется вообще с величайшим
воодушевлением и стало устанавливаться речением, встречающимся чаще какого
угодно другого сочетания с шем, и
притом тем чаще, чем далее шло развитие языка. Завершается это развитие
талмудическим словоупотреблением TX вместо
KDKa, данные чему, впрочем,
имеются уже во Второзаконии 28, 58 и Лев. 24, 11. Подобно этому в
южноарабских именах, как указывалось уже Гоммелем, весьма явно древнее
отождествление шем с его носителем.
Так:
|
Суму-аби |
= |
Его (Божие) имя есть отец. (Это значит: данный
человек есть сын имени, т.е. Божий). |
|
Суму-ла-лу |
= |
разве его (Божие) Имя не Бог? (Это значит, что
данное лицо носит именем имя, и оно – Бог, и следовательно, носитель этого
имени причастен к Божеской энергии). |
|
Шему-эя |
= |
Имя Его есть Бог. (Может быть, в том смысле,
говорит Хербер, что новорожденное дитя есть манифестация Божеского нумена). |
Таким образом, KDKaTX
означает прежде всего «наружу выдающийся момент, который делает Ягве видимым и
познаваемым», затем «то, что свойственно Ему и отличает Его ото всех других,
лиц и вещей, потому что есть выражение Его внутреннего содержания, проявления (Versichtbarung) Его существа». Оно обозначает, следовательно, «сказание (Erweisung) того, что есть в Ягве» или «внутреннее существо Ягве» (в Его
проявлении). В очень многих случаях, но не всегда, сочетание
"a"Xсоответствует нашему «личность», почему смешивается с Ягве: так
Пс. 20, 2; 44, 6, 9; ср. 92, 2. – Такова суть разъяснения Бемера.
<Приложение
1>
ОБ ИМЕНИ БОЖИЕМ
Почему афонские споры в наше
время как бы остановились и прекратились в своем развитии? Потому, что мы
слишком мало внимания обращаем на общее направление нашей жизни, мысли и
деятельности, на основные их линии. Поэтому и я сейчас хочу заниматься не
деталями, а общей постановкой вопроса об Афонских спорах.
Обычно к этому вопросу
подходят не с той точки зрения, с какой требуется, – не с точки зрения общих
предпосылок. Происходит эта ошибка оттого, что наше время лишено миропонимания
– все люди питаются лишь отрывками и обрывками различных положений и потому нередко
впадают в заблуждение, т. к. допускают в свое сознание такие предпосылки, в
которых уже заложено отрицание христианства и которые при дальнейшем развитии
непременно должны привести человека, даже против его воли, к отрицанию всего.
Но можно наметить несколько
таких данных из нашей действительности, при помощи которых можно подойти к
этому вопросу. Сейчас в нашей жизни есть православное мировоззрение и есть ряды
других мировоззрений, которые содержат в себе неправославные идеи или даже
только известные предпосылки, в результате развития которых бессознательно
придешь к неправославию. По внешности они почти ничем не отличаются от
православия, т.к. формулируют свои положения почти так же, как и православие, и
потому различие между ними и православием заключается не в той или иной
формуле, а в общем направлении мысли.
Формулируя свое
мировоззрение вполне православно, мы на самом деле постепенно и потому
незаметно для себя отступили от строя церковной жизни и сейчас находимся на том
же пути, как и протестантство. Вот пример: вместо восковой свечи, имеющей столь
глубокий смысл, в наших церквах – жестяные трубы, в них что-то налито, не елей,
а так, какая-то смесь; вместо естественного и символического света –
безжизненный свет электрический; вино у нас не виноградное, как будто бы это
все равно; устав не соблюдается; богослужебные формулы изменяются, подвергаясь
молекулярной переработке: сначала замена единых славянских слов русскими, потом
целых выражений и, наконец, целиком русская речь. А раз наша служба перестанет
соответствовать церковному чину и уставу, то очевидно, что происходит незаметно
некоторая фальсификация богослужения.
Правда, всякая замена есть
нечто маленькое, но, не берясь рассуждать, насколько всякая такая замена и по
существу есть нечто маленькое, невольно встает вопрос: о чем все это говорит?
Ведь что-нибудь да значит это систематическое вытеснение церковности и само по
себе должно являться показательным и нет ему конца и предела.
В основе этого явления лежит
отсутствие страха Божия. Страх Божий – это такое чувство, что мы постоянно
находимся лицом к лицу с Высшим Существом, это постоянное ощущение всеми своими
чувствами, всем организмом, всем существом, что пред нами такой слой бытия, к
которому не применимы наши обычные меры. Отсутствие этого чувства и влечет
перемены в богослужении. Ведь не станем же мы хозяйничать в чужой квартире,
передвигать в ней мебель, изменять состав библиотеки и т.д., а в церкви мы
изменяем порядки, не зная таинственных причин, определяющих их существование,
словом, чувствуем себя так, как будто мы не в Доме Божием, а в чисто
человеческом учреждении.
Причина всего этого –
отсутствие онтологичности в нашем мировоззрении, мы ничего не продумываем до
конца и постоянно забываем, что именно в явлении есть подлинное и что второстепенное,
забываем, что наша реальность есть только подражание другой, высшей ее
реальности, и что ценна они не сама по себе, а как носительница этой высшей,
реальности, забываем, что богослужение – не представление на сцене, а выявление
в нашей сфере иного слоя бытия.
Такое мировоззрение и
миропонимание бывает выражено, правда, ясно весьма редко, но тем труднее с ним
бороться, и тем хуже оно и опаснее. Это – как тлеющая головня: чадит, не дает
закрыть печку, а где она, какой уголек чадит – неизвестно. Мировоззрение это
можно охарактеризовать как нерелигиозное, как позитивизм.
Образовался и укоренился
такой взгляд в русском обществе по причинам как историческим, так и
психологическим. Протестантизм вообще имеет связь с дуалистическими течениями,
а они были весьма распространены на Руси. Богомильство, получив отпор на юге в
своем распространении, устремилось на север и заразило северян. Отсюда –
наблюдаемое в простом народе и у интеллигенции гнушение плотию («Крейцерова
соната»), аскетизм не ради Бога, а на почве отвращения к телу и миру. Кроме
этого – в тайной предпосылке о несоединимости Бога с миром, непроницаемости
мира для Бога, отсюда отрицание возможности преображения мира и тайное
отрицание воскресения тела. На языке философском, это – позитивизм, агностицизм
(потому что если транспортировать идею о несоединимости Бога и мира на
философские понятия, то это есть именно агностицизм, признающий непроницаемость
бытия для Истины). Между тем как православное мировоззрение усматривает в мире
его пронизанность лучами Истины, видит в мире другой мир, смотрит на бытие
тварное как на символ бытия высшего, имеборчество же есть отрицание возможности
символа.
Понятие символа есть узел по
вопросу об Имени Божием, а имеборчество – удар и попытка разрушить понятие символа.
Имеборчество опасно именно тем, что оно разлито незаметно всюду. Ярких его
представителей нет, и в появлении его никто в отдельности как будто не виноват,
и выражается оно не в тех или иных идеях, а в общем миропонимании, воспринятом
малосознательно или бессознательно. Вопрос о символе есть вопрос соединения
двух бытий, двух пластов – высшего и низшего, но соединения такого, при котором
низшее заключает в себе в то же время и высшее, является проницаемым для
высшего, пропитываемым им. А по богомильству и позитивизму эти слои бытия
признаются не соединенными, потому что этим воззрениям чуждо понятие ценности
бытия.
Примеры символов.
1). Книга. Что такое книга? Отвечать на этот вопрос можно различно, смотря
по тому, берем ли мы во внимание ее внешность или же главным образом вместе с
тем и внутреннее ее содержание, так сказать, тело или же душу книги. Со стороны
низшей – материала, книга есть некоторое количество листов бумаги известного
формата, переплетенных и т.д. На этой бумаге напечатаны определенные черточки и
точки такой-то краской по ее химическому составу и т.д. и т.д. Но как бы далеко
мы ни шли в этом направлении, то есть разбирая внешность книги и ее материал,
мы никогда не встретимся с Высшим бытием, которое именно и характеризует
понятие о книге как об одном из осмыленных способов выражения и закрепления
человеческой мысли. Связь между смыслом, с одной стороны, и бумагой и
чернилами, с другой – не объяснима, а что она существует – это очевидно и
бесспорно. Иначе не могло бы быть и книги. Здесь высший пласт бытия связан с
низшим и притом так органически связан, что, разрушая низшее, мы непременно
уничтожим и высшее.
2). Семя растений: в
нем заключена жизнь растения, оно несет в себе нечто большее и качественно
высшее, чем имеет в себе в наличности.
3). Комплекс слов.
Слово может расти, подобно росту растения, постепенно происходит амплификация
слова, оно может расти, пока не сделается организмом, способным осеменять
другие души. В Священном Писании аналогия слова и семени – одна из самых настойчивых,
равно и во всей мировой, более или менее глубокой человеческой мысли.
Гомологическим строением нашего организма объясняется глубокая связь рождений
физического и духовного.
Во всех этих примерах есть
две стороны – видимая и невидимая, два плана деятельности, связывающие и
укрепляющие друг друга, подобно как душа и тело в человеке. А мы склонны
считать тело слова, тело в слове чем-то ничтожным, ничего не значащим. Мы часто
говорим: это – только слово, это – только одни слова. Такой взгляд – подготовка
психологической почвы для имеборчества. Если звуковая сторона слова, тело его,
почти что ничто (а душа слова все-таки есть нечто), то образуется разрыв между
телом и душою слова, о котором говорит имеборчество. Оно рассуждает так, потому
что стремится все рационализировать, между тем как слово, как и всякий символ,
лежит вне пределов рационалистического понимания. Тело слова кажется на первый
взгляд элементарным. Но даже западноевропейское проникновение в него, в
сущности очень грубое и не глубокое, видит в нем три напластования[57]:
1). Нечто физическое –
фонему. Под ней разумеется как колебание воздуха (звук), так и те внутренние
ощущения организма, которые мы испытываем, производя звуки слова, а также
психологический импульс, вызывающий произнесение слова. Таким образом, под
первой материей слова, фонемой, разумеются все физиологические и физические
явления, какие бывают при произнесении слова.
2). Морфема. Всякое
слово подлежит известным категориям (или – говоря на языке познания), отлито в
логические категории, напр. сущность,
субстанция и т.д., и грамматические: род и т.д. и вообще все то, что мы
примысливаем к первичному представлению (напр., в слове береза – все, что мы
знаем о ее росте, осыпании, вкусном соке, ее строении, ее достоинстве как
топлива, химические элементы, входящие в ее состав и т.д. и т.д.).
3). Напластование –
семема, значение слова. Оно постоянно колышется и меняется (напр., сегодня я
скажу «береза» мечтательно, завтра хозяйственно). Это известный привкус к
слову. Яснее он чувствуется в поэзии – из всего типа произведения. Чтобы понять
слово правильно, надо понять из контекста, что именно здесь и теперь хотел
сказать человек, произнесший слово. Слово бесконечно богаче, чем оно есть само
по себе. Каждое слово есть симфония звуков, имеет огромные исторические
наслоения и заключает в себе целый мир понятий. Об истории любого слова можно
написать целую книгу. Тем-то и отличается одна эпоха мысли от другой, что
всякая историческая эпоха выдвигает свои определенные наслоения на слово.
Фонема есть костяк слова,
наиболее неподвижный и менее всего нужный, хотя в то же время он есть
необходимое условие жизни слова. Морфема – тело слова, а семема – душа его. Все
это содержание слова присутствует в нем, как в семени присутствует весь
организм, как сын получает свой организм от отца и как можно сказать, что отец
присутствует в сыне, хотя в то же время организм отца остается при нем и в нем
самом и отец ничего не теряет. Здесь видно различие oЩs…a (сущность) и ™nљrgeia
(энергия, деятельность), – организм сам по себе и деятельность присутствующей в
организме энергии. И эта энергия, будучи отлична от организма, есть в то же
время именно его энергия и не
отделима от него, так что, прикасаясь к его энергии, мы необходимо должны
прикоснуться и к нему самому. У отца – свой организм, а сын – произведение его
энергии, его самораскрытие, а не существо. Это же можно сказать и о слове.
Афонский спор опирается на
древний паламитский спор времен Преподобного Сергия, который им очень
интересовался и посылал на него своего ученика. Наше время вообще подобно тому
времени, только взаимообратно. Историческая обстановка, при которой происходили
паламитские споры, была похожа на нашу. Византия, как и Россия, искала внешней
опоры и испытывала ряд стеснений.
Почву для споров о Фаворском
свете подготовили еще раньше бывшие споры о filioque[58]. Католики, желая
подорвать значение афонского подвижничества, постарались изобразить умную
молитву как дело прельщения, а веру подвижников в то, что они входят в общение
с Богом, – ложной и состояние исихастов представить как не выводящее человека
из сферы земли.
Варлаам утверждал, что или
подвижникам является что-то тварное, следовательно, не выводящее их за пределы
твари, и, таким образом, галлюцинаторное в отношении к Богу, или же они
соединяются с самой сущностью Бога. Но так как это соединение твари и Творца
невозможно, то, следовательно, остается первое положение, то есть они
обманываются относительно природы видимого ими света. А если в результате своих
подвигов они приходят к самообману, если венец подвига ложен, то,
следовательно, ложен и весь путь их подвижничества, следовательно, он вреден,
поэтому и с Афоном нужно покончить. Варлаам рассуждал, что Бог простое
Существо, следовательно, нельзя различать в Его природе ничего, кроме Божества,
а если и можно, то только в нашем человеческом субъективном отвлечении[59].
Следовательно (это мысли Евномия), или Божество неименуемо – если Его сущность
непознаваема, – или же оно насквозь познаваемо, т.е. нужно принять или
агностицизм, если Бог нам совсем неизвестен, или рационализм – если Бог всецело
исчерпывается нашими понятиями[60].
Палама же рассуждал: в Боге,
наряду с Существом, есть и деятельность, самораскрытие, самооткрытие Божества.
Эта Божественная энергия может сообщаться людям, и мы, приобщаясь к этой
деятельности Бога, приобщаемся и Самому Богу. Палама не сказал ничего нового,
он только объединил и сформулировал то, что раньше было сказано святыми отцами[61].
[Здесь Флоренским прочитаны были анафематизмы Собора.][62]
Из анафематизмов: «действия не имеет только то, что не существует». Если же
действие существует, то существует и причина действия, и действие выявляет
собой существо и наоборот: существу соответствует и деятельность, т<ак>
ч<то> Имя Бога равно приложимо и может обозначать как Бога, так и Его
Божественное действие. Но может быть вопрос: это действие сотворено Богом или
же искони было Ему присуще, т.е. созданное оно или не созданное? По-гречески
Бог QeТj, Божество – QeТthj. Так как существо есть причина действия и раз
существует действие, то должна быть и причина, его производящая, а с другой
стороны, все существующее обязательно имеет действие, так что существа без
действия быть не может, то, следовательно, сущность и энергия существуют
вместе, рядом, обусловлены друг другом, а не одно после другого. Поэтому
одинаково можно назвать Богом и Бога, и Его энергию и можно сказать: «Я вижу
Бога». Но так как Существо Бога нам не сообщимо, то мы должны или совсем
отказаться от самого слова «Бог», или же относить его к энергии Божественной.
Поэтому можно и нужно сказать: «Бог меня исцелил», а не «энергия Бога
исцелила». Надо признать, что или этот тезис бесспорен, или же мы совершенно
отделены от Бога (признав последнее, впадем в агностицизм).
Другой пример, я могу
сказать: «Вот солнце», – а на самом деле я вижу лишь его энергию, но она есть
объективная энергия именно солнца, и, воспринимая ее, мы имеем интуицию
солнечного зрения (если же стать на точку зрения кантианства, то надо сказать,
что я вижу некоторый, в конце концов, лишь во мне происходящий процесс).
Мы только тогда можем выйти
и выходим из комплекса своих ощущений, когда признаем брачную встречу
объективного с нами. Я могу сказать про акт познания: «Вот я, познающий солнце,
и вот познаваемое солнце».
Следовательно, во мне
происходит соединение двух энергий и, следовательно, существ. Соединение
энергий носит название sunљgeia, совместная энергия (весь процесс спасения есть
синэргический). Слово есть синэргия познающего и вещи, особенно при познании
Бога. Человеческая энергия является средой, условием для развития высшей
энергии – Бога.
Можно сказать про книгу:
«Вот бумага» или «Вот великое произведение искусства». Можно сказать и так и
сяк, но правильнее указать на духовный смысл книги, а не на условие его
обнаружения. Можно сказать, что Евангелие есть фунт бумаги или же что Имя Божие
есть звук, и хотя с известной стороны (точки зрения) и можно так говорить,
например, про вес Евангелия в почтовой посылке, однако, более правильно указать
на важнейший признак – на душу символа. Физик может сказать, что Имя Божие –
звуки. Да, но не одни только звуки. И такое выставление на первое место истины
низшего порядка, поставление части вместо целого – есть ложь.
Имя Божие есть Бог; но Бог
не есть имя. Существо Божие выше энергии Его, хотя эта энергия выражает
существо Имени Бога. То, что я вижу, глядя на солнце, есть именно солнце, но
солнце само по себе не исчерпывается тем только действием, которое оно на меня
производит. Или, слыша голос знакомого человека, я могу сказать: «Вот Н.Н.». Но
ведь это только голос его, а сам он несравненно выше своего голоса, так как
имеет массу других индивидуальных признаков и нисколько не исчерпывается только
голосом. Или: «Вот Н.Н.», а на самом деле это – его фотографическая карточка, и
присутствует он в ней лишь своей энергией.
Мы можем, однако, различать
в приведенных примерах энергию человека от него самого только потому, что мы
имеем иные восприятия человека, то есть кроме его голоса или облика.
Мы можем смотреть на предмет
и его энергию или сверху вниз, или снизу вверх, то есть или от предмета
подходить к его энергии, или от энергии к предмету. А так как на Бога мы можем
смотреть только снизу вверх, то, следовательно, мы не можем отделить от Бога
Его энергию, различить в Нем Его Самого и Его энергию.
Мы опять подходим к вопросу
о символе. Символ – такого рода существо, энергия которого срастворена с
энергией другого, высшего существа, поэтому можно утверждать, – хотя это и
могло бы показаться парадоксальным, – что символ есть такая реальность, которая
больше себя самой.
Нам нужно выяснить также
вопрос о связи познания и именования. Слово может быть не связано с голосовой
артикуляцией. Первый момент в акте познания – это когда мы направляемся к
некоторому познаваемому существу. Это – еще субъективный процесс. И вдруг
наступает момент внутреннего вскрика при познании реальности. Это – уже первый
момент вхождения в объективное. Наименование бывает в один момент с познанием.
Слова Симеона Нового Богослова: ум, не рождающий слова, не может принять и
других слов[63].
Бог именуем – это первое положение христианского познания. В пантеизме мы Бога
не именуем, а в откровении с этого все начинается: беседа с самарянкой – «мы
знаем, кому кланяемся»[64], то
есть именуем Его. Перед пришествием Иисуса Христа было заметно, с одной
стороны, искание богов, а с другой – искание имен. А когда пришел Иисус
Христос, поиски неведомых богов стали не нужны. С возвещения Неведомого Бога
начал речь свою и Апостол Павел в Ареопаге[65].
Христианство есть проповедь Имени Иисуса Христа и Евангелия, призыв исповедать
Имя Христа. А мы подменяем это исповедание Имени исповеданием Самого Иисуса
Христа. Мы не понимаем важности, значимости, массивности Имени Божия, которое в
Библии, особенно в Ветхом Завете, выступает с необычайной ясностью.
Психологическое впечатление от Имени Божия выражено как впечатление
тяжести. Это как падающий на голову слиток золота. В Ветхом Завете понятие
Имени Божия почти тождественно с понятием Славы Божией. Между ними происходят
почти постоянно переклики. Мы склонны думать, что Славь Божия – это
совокупность похвал человеческих или ангельских, вообще тварных, то есть нечто
непостоянное, зыбучее. На самом же деле это – сущее, реально<е>, даже страшное
по своей реальности. Ее реальность лишь открывается людям, – Слава Божия, как
облако, наполнила Святая Святых[66]. Она
– не текучие и зыблющиеся человеческие мнения и суждения, – ради Славы Божией
создан весь мир и существует все бытие. Вообще в Священном Писании понятия
Славы Божией и Имени Божия так сближаются, что, грубо говоря, они – одно и то
же. Вот пример, показывающий онтологический характер Славы. Давид говорит
Голиафу: «Ты идешь с оружием, а я во Имя Господа» (по русскому переводу)[67].
В еврейском тексте видна идейная рифма, повторение и созвучие:
|
ты |
я |
|
выступаешь |
выступаю |
|
с мечом |
с Именем Божиим |
Но русское «с» мало передает истинный смысл I (ве), равно как и «во» –
во Имя. Ближе к нему по смыслу греческое «™n tщ СnТmati». I значит, во-первых,
орудие, – инструментальное значение: ты при помощи меча, а я при помощи Имени
Божия. Во-вторых, означает среду, где действие происходит, – локальное
значение. В-третьих, каузальное, указывающее на причинность как результат
соединения первого и второго значения, – крещения во Имя. По-русски лучше всего
и ближе переводить творительным падежом, хотя это и вносит большое обеднение
текста. Перед словом TW, имя,
предлог H ставится чаще всего, 59% во всем библейском тексте, предлог I
<ке> – 15%; а оставшиеся 26% распределяются между всеми остальными
предлогами. Следовательно, предлог I имеет внутреннее родство с TW= Фnoma.
Таким образом, имени усваивается что-то творческое, активное. Я иду с Именем
Божиим, равносильно как: «с мечом в руках», а не во имя отвлеченной идеи. Здесь
ярко подчеркнута конкретность Имени как орудия, среды и причины. То же самое:
«Сии на колесницах и сии на конех, мы же Имя, TVI Господа нашего призовем»[68],
– призывая Имя Божие, мы оказываемся в состоянии противостоять коням и
колесницам, – инструментальность и локальность Имени Божия, соприкасаясь с
произносящим, распространяется и на него. Та же мысль в выражении:
«Благословлять или проклинать Именем Божиим». По библейским понятиям это значит,
что Имя само благословляет или проклинает, а мы являемся лишь орудием для его
действия и той благоприятной средой, в которой оно действует. Имя управляет
мной, хотя на это требуется мое соизволение. Наше же отношение к богослужению
показывает, что мы стоим на точке зрения, близкой к имеборчеству, потому что
если мы постепенно изменяем церковную службу, выдирая из нее все по волоску и
по волоску, то спрашивается, где же начинается абсолютное и неизменяемое. Где
граница, отделяющая человеческую имитацию от Божественной подлинности. Может
быть, можно так без конца выщипывать. Ведь если стать на точку зрения
имеборчества, то мы окажемся не в состоянии ответить, например, крещен ли
человек. Потому что если богослужебные формы имеют происхождение чисто человеческое
и, следовательно, если благодать Божественная зависит от воли человека, то как
можем мы знать, достаточна ли была наличная степень веры его родителей, желание
священника совершить таинство и т.д. и т.д., словом, были ли налицо все те
условия, которые дозволяли бы благодати снизойти на крещаемого. Лучше поэтому
все сразу отвергнуть, так как не имеет никакого смысла играть в эту лотерею:
ведь это только кипение в собственных благочестивых чувствах. А ведь и
чувства-то имеют право на существование лишь постольку, поскольку мы верим, что
каким бы то ни было образом мы можем вырваться из области тварного, выйти за
пределы земного.
Точно так же если имеборцы
скажут, что «мы не доске, а Богу покланяемся», то я спрошу их: «В чем корень их
веры, что это – именно так?» Ответ на это в глубочайшем и непосредственном
убеждении каждого (всякого) человека, что, призывая Имя Божие, мы выходим из
области имманентной, подобно тому как, открывая окно, мы впускаем в комнату
свет. Окно есть нечто, принадлежащее дому, и отверстие, дающее возможность
войти наружному свету. Можно сказать про окно: «Вот солнце»; так и про энергию
Божию: «Вот Бог». Здесь гарантия того, что наше богослужение есть именно
Богослужение, а не кипение в своих благочестивых чувствах. Здесь же гарантия таинств[69].
Митрополит Филарет сказал,
что Именем Божиим совершаются таинства. Это значит, что Имя Божие совершает их,
а мы являемся лишь посредствующей силой: например – желание священника служить,
его горло, его и наше решение призвать Бога и т.д. и т.д. При молитве мы даем
тело для проявления Имени Божия или Славы Божией, соизволяем – да будет по
слову Твоему, но Имя Божие дается нам, а не создается нами. У нас же очень
часто не понимают этого. Вот пример, когда смазывается настоящее понимание
Имени Божия, Ин. 14, 26: «Утешитель же… Его же послет Отец во Имя Мое», pљmyei
Р pat»r ™n tщ РnТmat… Mou. В этом тексте мы без
всякого филологического основания склонны подменять pљmyei Р pat»r ™n tщ
РnТmat… mou пониманием: «ради Меня». Но что такое понимание неправильно, смотри
выше 13 стих: «Ф ti Ґn a„t»s hte Me en tщ РnТmat… Mou, toаto poi»sw – аще что просите Мя во
Имя Мое», – слова «Мя» в русском и славянском нет, почему-то греческое Me не попало
в перевод, а это – ответ на вопрос: кого попросите; ™n tщ OnТmat… Mou не может
быть передано «ради Меня», а надо «Именем
Моим», то есть, если прошение будет в Имени Моем, как в Моей среде, если
войдете во Имя Иисуса Христа, в сферу Имени Иисуса Христа, в непосредственное
соприкосновение с ним.
Да и по непосредственному
нашему чувству, когда мы говорим: «Господи, помилуй!», может ли быть какая
преграда, среда, средостение или хотя бы даже тонкая пленка между словом
«Господи» и Богом, и неужели мы остаемся только в своей субъективности?!
Но как бы мы ни рассуждали
отвлеченно, какие бы теории ни создавали, практически мы непременно мыслим, что
произнесение Имени Божия есть живое вхождение в Именуемого.
<Приложение
2>
<ЗАПИСКА
СВЯЩЕННИКА ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО
С ПРОЕКТОМ ТЕКСТА ДЛЯ НОВОГО СИНОДАЛЬНОГО ПОСЛАНИЯ.
Ок. 1916 – 1917 гг.>
1. Синодское Послание
об «афонской смуте» имело в виду внести мир в жизнь Русской Церкви и прекратить
возникшую распрю о почитании Имени Божиего. Однако последствия Послания не оправдали
возлагавшихся на него ожиданий, распря не прекратилась, взаимоотношения
спорящих сторон лишь ожесточились. К тому же, Послание Св<ятейшего>
Синода вполне или частично не приемлется многими из тех, за кем нельзя не
признать особенной ревности о спасении.
2. Заботясь о благе
Церкви, Церковная власть признает дело об афонской смуте подлежащим пересмотру,
а Послание, имевшее непосредственною задачею дисциплинарное воздействие, а не окончательное
решение догматических вопросов, неточным, особенно если понимать его как
формулировку догматов.
3. Послание
Св<ятейшего> Синода было написано при необходимости принять решительные
меры к прекращению смуты и кроме того не имело задачею положительно раскрыть
Церковное учение об Имени Божием. Поэтому в Послание могли попасть выражения
неточные, которые, как выяснилось, смутили и смущают некоторых верующих,
заставляя их подвергать сомнению правильность веры иерархии и даже отпадать от
общения с епископатом. Усматривая вред для общего дела церковного
строительства, Церковная власть предпочитает отказаться от Послания как примера
соблазна, нежели оставлять его в ущерб миру церковному.
Но с другой стороны, и
смущающиеся этим Посланием должны признать, что точный смысл некоторых из
выражений их писаний был разъяснен ими самими лишь впоследствии и первоначально
заставлял подозревать неправомыслие, против какового, собственно, и было
направлено Послание.
4. В настоящее время
Церковная власть признает, что в споре об Имени Божием <1 нрзбр.> между
обеими спорящими сторонами было много недоразумений и взаимного непонимания.
Пора положить конец этой розни, затянувшейся из-за общественного смутного для
Церкви времени[70].
5. Но за всем тем,
нельзя отрицать, что афонским спором затронуто дело великой важности и что это
дело – выяснение и формулировка церковного учения об Имени Божием – должно
продолжаться. Церковная власть признает, что до сих пор нет еще окончательно
выраженной и церковно признанной формулы догмата об Имени Божием, но с другой
стороны, на окончательной формуле, предложенной афонскими монахами, настаивают
далеко не все сторонники имеславия. Таким образом, окончательное выяснение
учения церковного об Имени Божием есть дело будущего и подлежит еще обстоятельной
богословской проработке и соборному обсуждению.
<Приложение
3>
<ОТРЫВОК ПИСЬМА,
НАПИСАННОГО П.А.ФЛОРЕНСКИМ
ПО ПРОСЬБЕ о. АРХИМАНДРИТА ДАВИДА
В ОТВЕТ НА ПИСЬМО АФОНСКИХ ИМЕСЛАВЦЕВ С КАВКАЗА>
1923.II.6. ст. ст.
Вы спрашиваете, как обстоит
дело имеславия. Медленно, но безостановочно, восстановление истины происходит,
и все более находится людей, уразумевающих заблуждение имеборства. Но успех
этого дела, поскольку значат что-нибудь человеческие соображения, зависит от
осторожного и бережного подхода к душам. По Апостолу, требуется
детоводительство и кормление молоком, прежде нежели станет усваиваться твердая
пища. Многие годы в русское общество вводились различные яды, отравлявшие ум, и
теперь даже лучшие представители России нередко подобны выздоравливающим от
тяжелой болезни. Было бы легко разделаться со злом, если бы можно было свалить
всю вину на двух-трех и приурочить ее к определенному году. Но не так обстоит
на деле: духовное разложение накоплялось десятками лет и виновных в нем было
очень много; мало кто не приложил сюда своей руки. Вы правильно пишете, что
«вопрос о Имени Божием есть наиглавнейший вопрос Православия, обнимающий собою
все христианство», и что «молитва Иисусова и еще кратче – Имя Иисус есть
краткое содержание всего Евангелия». Но вот, именно по этой-то средоточенности
этого вопроса в деле веры и связности его со всеми прочими вопросами, он
подвергался особенно многочисленным вражеским нападениям. Веру в Имя Иисусово
подтачивало не только и, может быть, не столько прямое нападение на нее, но все
косвенные враждебные действия вообще против чистоты веры. И поэтому это сердце
всего вероучения было настолько искажено в нашем обществе, что теперь
оказывается недостаточным убеждение с какой-либо одной стороны, но требуется
разносторонняя работа над духовным перевоспитанием. Рассудком – человек, может
быть, и понял неправоту имеборства, но к уму его привиты навыки ложной мысли, и
они не дают укорениться тому, что понятно рассудком. Приходится многократно и
разнообразно подходить к убеждению, чтобы вкоренить в уме привычки правой
мысли. А для прочного их усвоения требуется долгий молитвенный подвиг. И к нам,
монахам, относится необходимость преимущественно отдаваться этому подвигу,
нежели умствовать. Иначе легко самим впасть в заблуждение и, обвиняя других,
подпасть под церковную клятву. Так, нам показалось сомнительным то, что пишете
Вы о синодском послании. Ведь – есть Сам Господь Иисус, и есть Имя Его. Имя
неотделимо от Него Самого, и потому в Имени и Именем мы соприкасаемся с Самим
Господом и усвояем себе от Него Самого даруемое Им спасение. Поэтому и говорим,
что Имя Божие – Сам Бог. Но Он не есть Имя, и, не оговорив этого последнего
обстоятельства, можно вызвать некоторое смущение. Имя Иисус действительно
значит Спасение, Спаситель. Этого не отрицают и имеборцы, т.е. что Оно значит по смыслу своему Спасение. Не
отрицают они и того, что Сам Господь есть
наше Спасение, что Им мы спасаемся. Заблуждение имеборцев не в отрицании смысла Имени Иисус и не в отрицании спасительности Самого
Господа, носящего это Имя, а в отделении Имени от его Носителя, т.е. Самого
Господа. Имеборцам представляется, что имя Господа – само по себе, а Он – Сам
по себе, и потому они считают это имя тварным, случайным, лишенным сущности и
силы. Если же бы кто, допустив отделение имени от Господа, признал за Именем
собственную силу Имени, не зависящую от Самого (Господа) Спасителя, то тогда
действительно он впал бы в заблуждение, что можно волхвовать Именем Господним и
Именем Господа действовать против Самого Господа. Но все дело в том, что Имя
неотделимо от Господа и сила не иная какая, как Самого же Господа; Именем
нельзя действовать против Господа, потому что Он не станет действовать против
Себя Самого. Имя и Господь – нераздельны. Однако надо бояться и обратного заблуждения
– счесть их смешивающимися, слиянными: нераздельны, но и неслиянны. Имя
неотделимо от Господа, но это не значит, что его нельзя отличить от Господа.
Поэтому Вы несправедливо возводите на Синод ложное обвинение, будто Синод
отрицает спасительность. Господа и говорит, что «спасение неспасительно». Синод
признает спасительность Самого Спасителя, но, отделив от Него Его имя, не
признает спасительным этого последнего. Синод разделяет то, что нераздельно, а
вы хотите слить неслиянное.
Все это написано нами ради
примера, как осторожно надо рассуждать об этом важнейшем и ответственнейшем
вопросе. На церковной иерархии и на всем церковном обществе и без того вин не
мало настоящих, чтобы приписывать им несуществующие. А между тем, таким
образом, не только погрешаем против истины, но и вредим делу ее утверждения,
потому что преувеличенными и неправильными осуждениями вызываем общее недоверие
к себе, а с себя – и к тому делу, которому призваны служить.
[П.А.Флоренский] | [Библиотека "Вехи"]
© 2000, Библиотека
"Вехи"